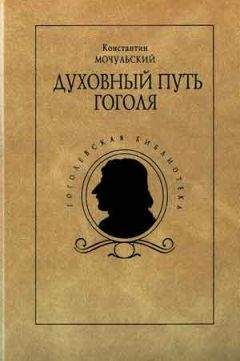Константин Мочульский - Кризис воображения
Но из этих отсветов и обрывков построена книга монументальная — самое полное и правдивое свидетельство о «величайшем годе». От одного «дуновения», от одного случайного слова — раскрывается перед нами вся «взвихренная Русь».
«Сердце стучит ответно со стуком сердца всей страды мира».
НОВЫЙ РОМАН ФЕДИ НА
В Константине Феднне, авторе нашумевшего романа «Города и годы», поражает прежде всего умеренность. Совсем новый тип советского писателя: уравновешенный, хладнокровный, добросовестный мастер своего дела. И среди сумбура угара послереволюционной нашей литературы, раздерганности нервов, распущенности стиля и растерянности перед лицом «событий» — один Федин стоит прочно; ломка быта, перестройка во всероссийском масштабе — и всякие «сдвиги массовой психики» не лишают его самообладания. У него хватает мужества не менять своего звания художника на кличку партийного работника. Более того, он смеет писать романы, в которых не все буржуи изображаются «продуктами разложения прогнившего строя» и не все товарищи — коммунисты — героическими строителями вселенной. Он не поучает, не проповедует, не зовет в бой — он только пишет романы,
Это вовсе не означает, что он стоит на возвышении и невозмутимо созерцает. Достаточно прочесть несколько страниц из его нового большого романа «Братья»[54], чтобы почувствовать его живое, кровное участие в этой «страшной жизни». Конечно, как человек, как русский, он мучился, мытарился, «переживал». Конечно, у него есть личные утраты, разочарования, горечь. Но в романе он не собирается излагать нам свою биографию: там он прежде всего мастер, «специалист» в своей области, пользующийся действительностью. как материалом для своей постройки. Федин не смешивает законов избранного им жанра с законами природы и знает, что всякое творчество — вымысел, а отнюдь не моментальная фотография. Роман вырастает из соразмерности частей, равновесия масс, строго проверенного движения эпизодов. Что общего между этим рассчитанным, замкнутым в себе целым и пестрой нескладицей жизни? В творчестве ~ форма, мера, выбор; в «реальности» — бесформенность, безмерность, длиннота, повторения, противоречия, путаница. Потому то все попытки «писать с натуры», «изображать куски жизни» всегда были плохой литературой.
Федин решительно порывает с натуралистической традицией. Он не жаден на «самоновейшее»: как бы ни был великолепен материал (война! революция! перевороты! переломы!), — сам по себе он безразличен. А что о самом необычайном можно писать обыкновенную дребедень — это нам давно доказали разные пролетарские беллетристы. И вот, отказавшись от мирового обхвата событий и сосредоточившись на одной «пылинке» — своем таланте романиста, — он со спокойным упорством берется за труд. Личные чувства, идеология, философские убеждения, наконец, сама грохочущая и слепящая действительность — все становится послушным материалом: он строит свое собственное, вымышленную повесть о выдуманных людях — братьях Каревых. Он сочиняет их характеры, их взаимоотношения, ставит в придуманные им положения, ведет по заранее проведенным путям: заставляет их влечься друг к другу, сталкиваться расходиться: окружает их бытом, в котором прояснены сгущены и упрощены черты подлинной действительности. Здание построено прочно — без щелей. Все на своем месте: все осмыслено единой волей, сковано единым замыслом. И читатель, увлеченный целесообразностью постройки, восклицает: «да это — сама жизнь!»
Федин ясно знает, чего хочет, сознательно и властно «хозяйничает». Стремясь к отчетливости плана и правильности рисунка, он взвешивает каждую часть, чистит, подгоняет, примеривает. Он нарочно усиливает значение архитектурных моментов. Роман начинается с загадочной и драматической сцены, в которой участвуют главные действующие лица. Мы не понимаем, почему они так мучительно взволнованы этой неожиданной «очной ставкой», мы ищем разгадки, мы заинтересованы и вовлечены в действие с первых же страниц. После напряженной увертюры — повествование по ступеням уходит в прошлое: сначала — события, по времени близкие к началу романа, потом — все дальше в юность и в детство героев. А затем нити интриги с медленной постепенностью распутываются; обозначаются планы: вырастают на фоне войны и революции три главных фигуры: братья Матвей, Никита и Ростислав Каревы: первый — знаменитый профессор–медик, второй — талантливый музыкант, третий — офицер красной армии. Они непохожи друг на друга, враждебны в своей непохожести: и все они тесно связаны детством в глухом приуральском городке близостью к отцу, богатому купцу Василию Леонтьичу.
С удивительным мастерством К. Федин воссоздает, как сон, как детскую сказку — широкий простор степей, караваны с товарами из Азии, купеческое обильное, благодушное житье, остатки казачьей древней вольницы. Возникают новые образы, огромное раздолье романа заполняется людьми, событиями, нарастающим гулом великой смуты. Все тревожнее темп рассказа: плавность детства сменяется взволнованным ритмом, напряженной тревогой юности: образ Никиты Карева дополняется все новыми и новыми подробностями. Вот он перед нами во весь рост — главный герой романа. Замкнутый в себе, не участвующий в общей жизни, непроницаемый в своей беспричинной тоске и неясной мечте о «настоящей музыке»: он чудаковат, отсутствующе смотрит на нелепую лавину «фактов», грозящую раздавить его. Всю войну он проводит в Дрездене, пишет симфонии; потом возвращается в Россию и пешком, с немецким ранцем на спине, идет «домой», в уральские степи. Его задерживают и приводят в штаб красного отряда: в командире его он узнает брата Ростислава. «Дом» — отец и мать — в руках белых. Брат спрашивает его, «с кем он». Никита отвечает: «Я пришел на родину и не нашел родины. А я хочу найти ее, потому что без нее нельзя жить, поняли? Я говорю — ты действуешь по совести, ты служишь, по–твоему, прекрасному делу. Отец, наверное, тоже уверен, что служит прекрасному делу. Я не хочу вас судить, ни тебя, ни отца, потому что, пока я шел по степи, на моем пути каждый день попадались трупы. Этого, вероятно, требует прекрасное дело, твое или твоих противников, все равно. Утверждайте ваше прекрасное дело тем способом, каким вы умеете. Я ему служу тем, что смотрю и слушаю».
И Никита Карев, гонимый и преследуемый по всей России вихрем гражданской смуты, продолжает жить в своей «пылинке» — музыке, смело отстаивая свое право на жизнь, на свою единственную, неповторимую жизнь. Но каждый шаг к творчеству, каждая новая страница его симфонии покупается ценой тяжелой утраты. Умирает его первая юношеская любовь, уходит от него женщина, любившая его всю свою жизнь, пожертвовавшая для него всем — и, наконец, — увидевшая «правду». Для Никиты — мир не существует, он никого не может любить, он обречен, как жертва, своему искусству. Женщина эта — красивая, пламенная, несколько «демоническая» Варвара — наименее удалась автору. История ее, сплетающаяся в сложном узоре с биографией Каревых — вносит неприятную, слишком эффектную ноту в роман. Ее настойчивые преследования Никиты, потом связь с красным лоцманом Родионом, ее дружба с Витькой Чупрыновым, субъектом, напоминающим Смердякова, — все это выпадает из построения и кажется непомерно разросшимся эпизодом. Как бы то ни было, роман К. Федина насыщен действием и читается с увлечением.
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. «ОЛЯ».
В этом романе рассказывается о простой жизни Оли Ильменевой; первая часть «В поле блакитном» — детство, Деревня Ватагино, воспоминания об отце, матери, няньке Фатевне, о странниках и сундуке с бабушкиным приданым, все вместе: и важное, и незначительное, и печальное, и трогательное; все, как запомнилось, вне перспективы и выбора: непосредственная запись детских впечатлений. Някины сказки, пасхальная заутреня, рождественские каникулы, смерть бабушки, а рядом случай с бешеной собакой история о зайчике, который приносит конфеты. Автор никак «строит» своего повествования. Это похоже на дневник, так же лично, отрывисто, иногда случайно, но из мелочей и беглых заметок вырастает в неповторимом своеобразии смутная и сказочная пора детства. И в этом смысле приемы Ремизова прямо противоположны приемам Толстого в «Детстве» и «Отрочестве». Толстой восстанавливает прошлое с точки зрения взрослого: у него материал памяти подвергается последующей переработке; Ремизов смотрит глазами ребенка, прошлое для него — настоящее: чудесный, сверкающий и таинственный мир. У одного — аналитический разум, у другого — лирическое воображение.
Вторая часть — «Доля» и третья «С огненной пастью», посвящены Олиной юности: Петербург, Бестужевские курсы, революционная работа, сходки, конспирация, аресты. В нашей литературе история революционного движения никогда еще не разрабатывалась, как поэтическая тема. К сложному общественно–политическому явлению Ремизов подходит не как историк и бытописатель. «Деланье революции» он воспринимает лирически, и в партийном подполье видит не догму и доктринерство, — а великую любовь и жажду «пожертвовать собой». Эти юноши и девушки, спорящие о Плеханове и Каутском, презирающие тех, кто смеет жить личной жизнью и расходящиеся с друзьями потому, что те «склоняются» к с. — д., а не к с. — р., просветлены такой любовностью, такой застенчивой нежностью, что, кажется, вся книга написана о любви. Убогий и печальный быт, наивная и нетерпеливая идеология подростков — растворены в чистой лирике. Все прозрачно, все залито радостью жизни и верой в «идеал». И у Ремизова это слово может стоять без кавычек: его гуманизм — не идея, а подлинная реальность. Оля с темно–русой косой, густыми бровями и «совиными глазами» до конца сохраняет «свою горячность и свою готовность все отдать».