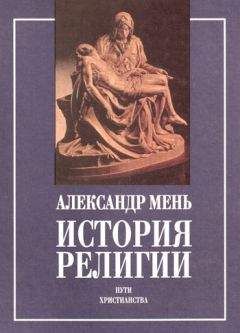Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана)
Аналогичное желание, видимо, побудило Феодосия II в 438 г. объявить о сборе и кодификации (скорее в назидательных, чем в практических целях) новых источников правоведения, «общих законов», обнародованных в IV в., а также приступить к систематизации текущего законодательства.
16 книг «Кодекса Феодосия» составлены в хронологическом порядке согласно критерию «Дигест» классической эпохи. Эти книги дошли до нас не в оригинальном тексте, а переделанные и соединенные с последующими вставками. Их ценность все же вне сомнения, хотя она выявляется лишь отчасти. Антиеретическое законодательство включено в последнюю, XVI книгу, носившую название «Об универсальной, или католической, вере». Этот раздел как бы венчает весь труд. Характерно, что соответствующая рубрика — «О высочайшей троице и об универсальной пере» — открывает «Кодекс Юстиниана», в котором заново осмыслены новые установки христианства.
Официальным языком права был по-прежнему латинский; на Востоке его больше не понимали, исключая некоторые интеллектуальные книги. Это обстоятельство помогло создать отношение почтительного непонимания к богослужебному языку католической церкви, которое употребление латыни порождало в людях, не знавших ее. На Западе «Кодекс» был сразу принят императором Ва-лентинианом III (424–455), которому Феодосии дал в супруги свою дочь Евдоксию Лицинию, чтобы упрочить, хотя бы на семейной почве, все более слабые и неустойч чивые связи между двумя частями империи.
Для истории этого трудного и часто смутного переходного периода «Кодекс Феодосия» — незаменимый источник знаний не только о правовой и религиозной сферах жизни общества, но также о новых экономических и социальных структурах, о которых в нем есть прямые сведения. Мы обнаруживаем в нем, например, законы, регулировавшие установление колоната. Конституция Константина от октября 322 г. звучит так: «Кто бы ни нашел колона, который принадлежит другому, должен вернуть его по принадлежности господину, у которого он был рожден, и уплатить за то время, что тот провел у него. Колоны же, которые пытаются бежать, должны быть закованы в цепи подобно рабам» («Кодекс Феодосия», V, 9, 1).
Колон, который пришел на смену рабу с его непроизводительным трудом, свободен, но это только видимость свободы, так как на деле он крепко привязан к земле. Он не может занимать общественные должности, которые потребовали бы отдалить его от земли, на которой он живет. Его нельзя посвятить в сан священника, если только не в пределах края, где он живет. Землевладелец, однако, не мог продать свое владение без колонов либо колонов без земли, разве что крестьянин умрет, не оставив наследников. Даже сами чиновники податного ведомства не могли прогнать колона с земли, если тот не уплатил налогов.
Рента фиксировалась законом и применялась от места к месту. В целом ее сумма оказывалась очень тягостной. Колон имел право вступать в брак по своему выбору, завещать имущество и обращаться в суд, но впоследствии эти свободы были у него отобраны. Еще важнее было освобождение от военной службы. (Оно продержалось до введения германского права.) В этом случае также решающими были соображения экономической пользы, а не гуманные побуждения. Один из законов Юстиниана придал колонату в 534 г. еще более жесткую структуру: «Колоны, хотя лично и свободные, должны считаться рабами ремли, на которой они рождены» («Кодекс Юстиниана», XI, 52). Так начиналось крепостное право.
В категорию колонов вошли крупные массы «варваров», бродяг, отверженных и даже свободных, которые работали по 30 лет на одного землевладельца. Юстиниан распространил это правило на детей, санкционируя такое положение вещей формулой, в которой классовые законы эксплуатации переданы в терминах религиозного фатализма: «Каждый должен следовать своей судьбе» («Кодекс Юстиниана», XIII, 69, 4).
Это утверждение помогает нам понять систему, укреплявшуюся в разгар крушения античного общества. Каждый человек чувствовал себя под угрозой надвигающихся бедствий и искал способа избежать злой участи: раб бросал своего господина и просил убежища у германских племен, которые наводняли Западную Европу и Италию; крестьянин покидал поля, рабочий — свое ремесло, чиновник — свое учреждение. Государство видит только одно средство предотвратить всеобщий распад: блокировать подчиненные слои на их социальных позициях и преградить им все пути отступления. Уже в 395 г. императоры Аркадий и Гонорий угрожали крупными штрафами тому, кто даст приют работникам, дезертировавшим из своих ремесленных корпораций. Отныне эта практика распространяется и становится нормой.
Формируется настоящий тип «замкнутых каст», но не столько в результате стихийного развития, а как следствие осознанной государственной политики. Единственный класс, располагающий подлинной независимостью в условиях экономики, основанной на сельском хозяйстве, — это класс старых и новых латифундистов, заставлявших почувствовать свой вес внутри самого церковного общества, особенно на Западе. Их роль в управлении религиозными делами станет еще более явной с того момента, когда земельный собственник и епископ в конце концов совпадут в одном лице.
Лишь в итоге бенедиктинской реформы монастырская организация избегнет еще на несколько столетий — и то в известных пределах — общей участи церковных институтов.
РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕСТОРИАНСКОЙ
И МОНОФИЗИТСКОЙ ЦЕРКВЕЙ
Очень трудно выяснить прямую связь между этим положением вещей, способствовавшим появлению новых отношений между людьми, и религиозной жизнью масс в период между Фео-досием и Юстинианом.
Теологические диспуты, которые вновь разгорелись в лоне христианского мира после первой систематизации догмата о троичности, кажутся далекими от повседневной действительности. Но среди разнообразных явлений в структуре и надстройке существуют все же и взаимодействие и обратные связи. Стремление очертить концепцию сущности бога не менее жесткими рамками, чем те, что определяли человеческое существование, — это не простое и случайное совпадение, хотя подобное сравнение и не следует понимать слишком буквально.
Вариативность развития общественных отношений отражается в религиозных верованиях. Но идеи, однажды Ставшие частью надстройки, следуют затем путем самостоятельного развития, предопределенного фактическими условиями, которые их породили?
В споре с арианством большинство теологов сумело утвердить тезис о том, что евангельский Христос не был низшим божеством и субстанционально был идентичен отцу. Теперь задались вопросом: как могло произойти слияние их субстанций? Сохранил ли при воплощении Христос свою божественную природу или же приобрел еще и другую, человеческую? Не стоило бы заниматься подобными ребяческими абстракциями, если бы из нового конфликта по этому вопросу не возник глубокий разлад в христианстве V в., который положил начало, с одной стороны, Так называемой несторианской, а с другой — монофизитской церквам.
Массы верующих всегда понимали воплощение мифологически. Было ли тело Христа действительно реально, создано из плоти и крови, или оно было только кажущимся, как утверждали гностики, — все это имело влияние на принятие ими догмы о спасении. Но философские школы имели на этот счет вполне определенные взгляды. Платон, например, учил, что в человеке следует различать Д1зе души, или «натуры»: рациональную и чисто животную. Если спасение есть не только акт познания, но и приобщения к божественному началу посредством обряда, то теологи вынуждены были прийти к выводу о том, что Христос не мог быть исключительно божеством в. человеческом облике, но был реальным человеком, наделенным телом и душой.
Один из осужденных на Константинопольском соборе 381г. епископов — Апполинарий из Лаодикеи пытался обойти эту трудную проблему, доказывая, что так как у человека тело и душа нераздельны и образуют одну личность, так и в Христе следует видеть одну-единственную божественную индивидуальность. Это и было учение, которое преобладало в александрийской церкви со времен Афанасия. Но отцы антиохийской школы исходя из иной антропологии, более близкой к аристотелевской традиции, отрицали, что в Иисусе имело место полное слияние человеческого и божественного начал. Диодор из Тарса и Феодор из Мопсуестии пришли к утверждению о присутствии в Иисусе двух разных, завершенных в себе личностей. Однако «личность» и «природа» для многих означали одно и то же.
Некий монах из Евфратской части Сирии, по имени Несторий, получивший образование в Антиохии и возвысившийся к 428 г. до высокого сана константинопольского епископа, сделал из этих споров вывод, что Мария не может быть почитаема как «матерь божья», или theotokos,[132] ибо она есть всего лишь «мать Христа», смертного, как и все другие. Это утверждение оскорбило большинство верующих и особенно весьма могущественных в новой имперской столице монахов. Начались беспорядки и волнения. Немедленно вмешались власти, оберегавшие общественные устои.