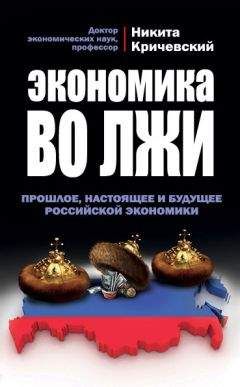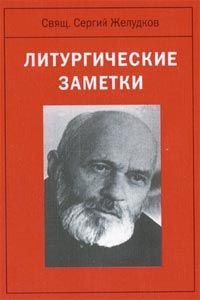Сергей Желудков - Литургические заметки
4
Священные одежды — иллюстрация внеканоничности развития церковного Богослужения. Никакой собор не постановлял ничего относительно церковных облачений. Сегодня для нас ясно только их общее назначение — выделить священнослужителя из обыденности и обозначить его особую уполномоченность в Церкви. Поднятие диаконом ораря хорошо выражает приглашение к общей молитве. Но когда, как появился орарь, что он сам по себе означает — этого никто не знает. Даже происхождение слова объясняют по-разному. Мне говорили, что корифей русской литургии проф. Н. Д. Успенский выдвигал предположение, что орарь мог преобразоваться из полотенца, которое носил на плече диакон-служитель древнехристианской трапезы и которое он воздевал для приглашения к молитве. Эта практическая догадка, по крайней мере, гораздо более солидна, чем так называемое «символическое» толкование, которое я читал в каком-то популярном издании, что орарь обозначает ангельские крылья. Ибо он просто не похож ни на какие крылья.
У священников орарь перекинулся обоими концами вперед, здесь сдвоился и образовал епитрахиль (от греческого «трахилос» — шея). Епитрахиль удачно объясняют как символ благодати священства. Нередко мы видим епитрахиль уже без следов сдвоения ораря — без шва посредине, и эта по-своему крупная «реформа» епитрахили совершилась тоже без всякого постановления, вероятно, просто по большему удобству для шитья. И эта «новая» епитрахиль в некотором смысле как бы освящена уже иконою преподобного Серафима.
Возможны дельные возражения против нынешней формы священнической фелони (от греческого — плащ, накидка). Она приняла у нас уродливый вид — заканчивается твердым пирамидальным верхом, стоящим за спиною священника, который оказывается без плеч. На старых иконах и в исторической живописи мы видим фелонь естественную и красивую. Недавно я видел такую фелонь на будничной литургии в соборе Александро-Невской лавры. Она лучше гармонирует с короткими волосами священника (тоже — древность, к которой мы возвращаемся), хорошо вписывается в стиль русского храма. Народ не выражает никакого неудовольствия. Еще бы — ведь это фелонь святителя Николая и Златоуста!.. Думается, что она должна быть восстановлена, — и это произойдет без собора и без циркуляра, просто путем свободного подражания лучшему образцу.
Язык русского церковного Богослужения
5
«...Речь моя идет не о переводах, а о новом творчестве, которое на языке другой эпохи невозможно. Церковные песнетворцы писали на языке своего времени — конечно, не на рыночном, а на торжественном. Златоуст онемел бы, если бы ему поставили условие — говорить языком эпохи Гомера. Это вдвойне действительно по отношению к языку церковно-славянскому, который представляет собой соединение греческой грамматики со славянскими корнями и на котором за тысячу лет ничего кроме переводов и не было написано. Когда мы читаем, например: «О ужасного начинания!» или «О радости оныя!» — мы переносимся не в одну другую эпоху, а сразу в две другие эпохи и не знаем, что нас более трогает — пафос грека или смирение русского переводчика: оба они молятся с нами... На этом священном «дву-языке» можно при помощи словаря «составлять» что-нибудь, как делали мы это со службами русским святым и акафистами. Но это будет еще не творчество, а только имитация или пародия. Неужели с греками навсегда кончилось словесное творчество в Церкви? И как войдет наш великий, правдивый, могучий, свободный русский язык в русское церковное Богослужение?...» Из письма, 1957
Надо иметь постоянно в виду, что по словесному содержанию у нас собственно не русское, а целиком греческое церковное Богослужение. Для перевода его и построился в свое время специальный церковнославянский язык. Торжественный, звучный, священный язык — идеальный подстрочник греческих текстов. Когда мы рассматриваем наши главные, наиболее употребительные церковные песнопения — мы убеждаемся, что лучше перевести их было невозможно:
Христос воскресе из мертвых
Смертию смерть поправ
И сущим во гробех
Живот даровав.
Невозможно было бы никак лучше перевести и этот (хочется назвать его гениальным) кондак преподобного Романа Сладкопевца:
Дева днесь Пресущественнаго раждает
и земля вертеп Неприступному приносит
Ангели с пастырьми славословят,
волсви же со звездою путешествуют.
Нас бо ради родися
Отреча младо, превечный Бог.
Или этот древнейший христианский гимн, известный уже в III веке:
Свете тихий
Святыя славы
Безсмертнаго Отца Небеснаго,
Святаго, Блаженного —
Иисусе Христе!
Пришедше на запад солнца,
Видевше свет вечерний,
Поем Отца, Сына
И Святаго Духа, Бога.
Достоин еси
Во вся времена
Пет быти гласы преподобными —
Сыне Божий,
Живот даяй,
Темже мир Тя славит.
Перевод положен на ноты, причем некоторые композиции чудно хороши... Одно это должно остановить всякое намерение «исправлять» перевод, уже соединенный с музыкой. Да и как исправлять? «Свете тихий» — нельзя было лучше перевести, истолковать прилагательное, выражающее по словарю радостность, веселость, доброе настроение. Догадываюсь, что здесь перевод даже лучше оригинала, особенно если почувствовать еще и скрытую антитезу страшному, опаляющему свету неприступного Божества до христианства... «На запад солнца» — можно было бы сказать: «К закату солнца», но это был бы уже не церковно-славянский, а русский, разностильный и притом худший перевод. «Пет быти гласы преподобными...» «Живот даяй...» Можно перевести это лучше, но опять-таки уже только по-русски, с нарушением стиля и музыки. Нет, ничего уже тут нельзя изменить, это подобно древней иконе, которую можно только комментировать, — и это прекрасный повод для очень содержательной церковной проповеди.
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
Показавый учеником Твоим Славу Твою,
якоже можаху.
Да возсияет и нам, грешным,
Свет Твой присносущный.
Молитвами Богородицы.
Светодавче, слава Тебе!
Здесь «якоже можаху» значит: как только они могли, в меру их способности восприятия показана была ученикам Божественная слава Христа. Надо объяснить это в проповеди; но невозможно было бы в церковно-славянском переводе изложить это никак иначе.
Один из воскресных «тропарей по Непорочнах»:
Почто мира с милостивными слезами,
О ученицы, растворяете?
блистаяйся во гробе ангел
Мироносицам вещаше:
Видите вы гроб и уразумейте:
Спас бо воскресе от гроба.
Женщины плачут, и слезы жалости смешиваются с ароматами, которые несут они ко гробу Господню. Слова об этом поэт вкладывает в уста ангела, вестника Воскресения у пустого гроба... Это нельзя было никак иначе перевести, это можно только объяснить в проповеди, которая может на этот текст быть прекрасна.
Еще пример:
...а може вси человецы пойдем,
надгробное рыдание творяще песнь:
аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Обычно мы понимаем это так, что вот — надгробное рыдание сопровождаем мы покорным «аллилуйя». И только специальным объяснением можно нам растолковать, что это значит.
Это значит: надгробное рыдание творяще песнью, прославляющей Бога. Надгробный плач становится гимном хвалы. В нашей безутешной скорби о почившем мы переживаем такую любовь нашу к нему, такую любовь его к нам, возносимся на такую духовную высоту, что приобщаемся к самой Божественной Жизни... Обычно в церковных нотах «аллилуйя» звучит мрачно, музыкально повторяет «рыдание». Это неправильно, здесь должен быть прорыв к свету. Попытаюсь нарисовать это на нотах; что-нибудь вроде вот этого. [...]
Как перевести это иначе? «Претворяя в песнь»? Это будет не лучше, ибо еврейское «Аллилуйя» («слава Богу») остается все равно ведь не переведено. Надо примириться с тем, что глубочайший смысл этих слов будет доступен только тому, кто услышит их разъяснение. Подобным же образом пение «вечная память» будет воспринято случайным посетителем храма только как «вечная слава» и тому подобная похоронная ложь. Истинное значение «вечной памяти», как вечной жизни со Христом в Боге, может быть усвоено только в церковной проповеди.