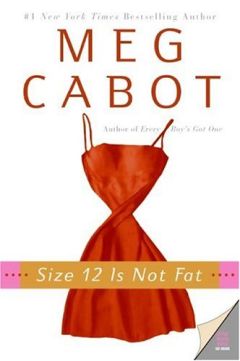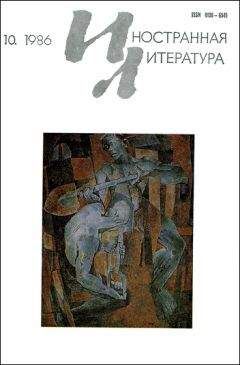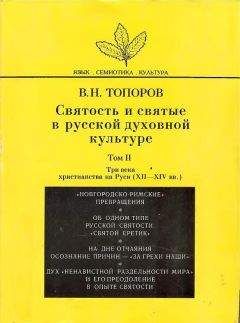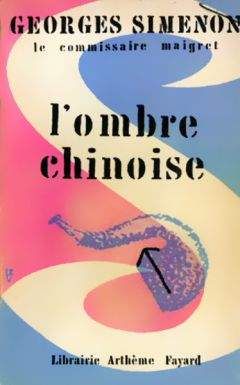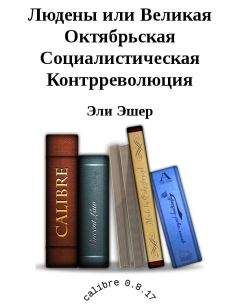Владимир Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том 1.
Наконец, есть еще одно основание (может быть, глубинно наиболее важное) для подтверждения мнения об авторстве Константина Философа: главное в «Прогласе» принадлежит именно Константину Философу, его кругу мыслей и интересов, тому, что вдохновляло его и вызывало на подвиг. И в этом смысле тезис об авторстве Константина сохраняет свое значение, даже если Константин Пресвитер Болгарский подверг некий предыдущий текст обработке и, более того, даже если этот предыдущий текст не был записан, а существовала некая устная, более или менее институализированная версия текста, возможно, использовавшаяся и в подобных целях при богослужении. Во всяком случае и тогда было бы оправдано говорить об авторстве Константина Философа, хотя и в более ограниченном понимании термина «авторство», и исходить из презумпции «наименьшей» ошибки, поскольку Константин Пресвитер не оставил в других своих текстах достаточно надежных следов интереса к этому кругу идей и в лучшем случае мог бы считаться лишь соучастником–оформителем известной версии «Прогласа».
Но при предположении об авторстве Константина Философа в отношении «Прогласа», как известно, возникает вопрос о том, каким образом объясняются в «Прогласе» четвероевангельские и библейские цитаты, которых автор не мог найти в переведенном к тому времени «Недельном Евангелии». Разумеется, наши знания о полном составе переводов ко времени создания «Прогласа» очень скудны и недостаточно детализированы (поэтому, например, трудно поручиться за то, что весь црьковъныи чинъ не мог иметь в своем составе тех или иных конкретных цитат из Ветхого Завета или отдельных Евангелий, которые наличествуют в «Прогласе» и едва ли могли быть в «Недельном Евангелии»), Вопрос о цитатах или свободном (но близком к тексту, тем не менее) изложении ново- и ветхозаветных текстов в неевангельских и небиблейских сочинениях (случай «Прогласа») хотя и был поднят более 60 лет тому назад [18], до сих пор принадлежит к числу недостаточно разработанных, и поэтому (если настаивать на том, что автор «Прогласа» Константин Философ) приходится допустить, что Константину Философу принадлежат и те ново- и особенно ветхозаветные вкрапления, (точные цитаты и разные виды парафраз) в «Прогласе», которые ко времени его создания еще не получили своей переводной старославянской формы. В этом случае значение «Прогласа» многократно увеличивается: он совмещает в себе не только авторский текст оригинального характера, но и ряд «проб» в переводе евангельских и библейских отрывков, сделанных впервые, так сказать, ad hoc. Анализ этих «предпереводов» (по меньшей мере часть их предшествует во времени переводам, ставшим каноническими и дошедшим до нашего времени) должен стать одной из настоятельных задач палеословенистики, но в этой работе акцент на другом, а именно на том, какую смысловую и композиционную роль играли эти цитаты и парафразы в структуре текста «Прогласа» как законченного и самодовлеющего целого, обладающего, несомненно, и эстетической функцией. При иной формулировке можно сказать, что в центре внимания здесь, помимо концептуальной структуры, находятся принципы и способы художественной композиции текста, характерные для первого старославянского переводчика и оригинального поэта» [19] Константина Философа.
* * *
Что «Проглас» заслуживает особого внимания не только как текст, в котором предпринимается попытка кратко сформулировать некоторые наиболее важные и глубокие идеи, предуготовляющие к восприятию евангельского текста (эти идеи для новообращенных славян должны были стать путеводительными), и объяснить задачи, стоявшие перед «работниками одиннадцатого часа», и их назначение в новом строе христианской жизни, но и как один из самых ранних памятников славянской книжной поэзии, не вызывает сомнения. Среди старославянских стихотворных текстов он является наиболее значительным по объему, если иметь в виду оригинальные тексты (иное дело — Киевские листки, представляющие собой перевод миссала). Каковы бы ни были источники отдельных частей «Прогласа», как целое он является оригинальным памятником старославянской поэзии не только по языку, но и по композиции. В этом смысле «Проглас» менее зависит от греческих образцов, чем Другие стихотворные тексты Константина и, в частности, чем его энкомий Григорию, предполагающий явную ориентацию на структуру семистиший Григория Назианзина [20]. С этой точки зрения «Проглас» — самый характерный и наиболее представительный памятник старославянской поэзии, тот «Slavic response to Byzantine poetry», о котором писал Р. О. Якобсон, имея в виду «творческую автономию и суверенное полноправие славянских провинций византийского искусства, изобразительного и словесного» (Якобсон 1963:166). И еще одно основание для обращения к «Прогласу» состоит в том, что структура этого текста как поэтического произведения, строго говоря, пока не была предметом сколько–нибудь подробного анализа, хотя в разной связи те или иные ее элементы описывались и изучались (ср. прежде всего Георгиев 1938; 1956; Jakobson 1954 [1963]; 1985). Так что и в этом отношении больше повезло «Похвале Григорию Богослову» (ср.: Trubetzkoy 1934:52–54; Якобсон 1957 и особенно 1970; 1985:207–239, 279–280 и др.). По необходимости и в этой работе придется ограничиться рассмотрением лишь некоторых аспектов структуры текста «Прогласа», но при этом наиболее существенных.
Но прежде еще несколько слов о характерных чертах творческой личности Константина. Для дебюта книжной славянской поэзии и ее дальнейших судеб особое значение имело то обстоятельство, что ее творцом был знаток и выученик греческой поэзии, почитатель ее высших достижений христианской эпохи. Не случайно, что именно Константин заложил первый камень той традиции, которая эллинизировала позже русский язык и создала слово необыкновенной бытийственной полноты и глубины, прочнее всего утверждающее связь со сферой исторического [21]. Но Константин Философ не только познакомил и породнил греческую и славянскую речь, в частности, в поэзии. Он был одновременно и художником слова и мыслителем. С его помощью славянство соприкоснулось с высшими духовными ценностями, которые византийская культура хранила и развивала, продолжая, с одной стороны, античную традицию, а с другой, — христианскую и через нее — косвенно — ветхозаветную. Именно Константину обязана русская духовная традиция догматическим и художественным символом Софии–Премудрости, Художницы Небесной.
Да, Равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей первообразом горнего мира, узрел Софию, и в его восприятии Она — божественная восприимчивость мира — предстала как прекраснейшая Дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство Небесной Деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот Византийской культуры… Около этого небесного образа выкристаллизовывается Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древней письменности, как, вместе с ним, и наша древнейшая литература, пронизанная и формально и содержательно благороднейшим из языков — эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного — Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его — философ, и что около Софийского храма, около древнейших наших Софийных храмов, обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси [22].
Но через образ Премудрости — Софии (Σοφία), которая изначально женственна и многоплодна, в которой слиты воедино Творец, творчество и тварь, устанавливаются связи христианской софиологии с одним из ее важнейших истоков — позднебиблейской мифологемой о жизни и творчестве как радостном художестве, ср. др. — евр: (hkmh) «премудрость Божья»: «Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони: от века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны… Тогда я была при Нем художницею и была радостию всякий день; веселясь перед лицом Его во все время… кто нашел меня, тот нашел жизнь» («Книга притчей Соломоновых», VIII:22–24, 30–35) [23]. Тем самым Константин Философ становится для славян первым проводником в мир религиозно–умозрительных ценностей иудаизма и, следовательно, той фигурой, которая открывает важную и обширную область Judaeo–Slavica (и даже шире — Semito- Slavica) [24] [О следах еврейского элемента в текстах, приписываемых Константину Философу, см. Барац 1927:331 и след.]. Роль Константина в связи с этим, однако, не исчерпывается переводческой деятельностью. Легенды и жития кирилло–мефодиевского цикла рисуют Константина как блистательного оппонента–полемиста в прениях с иудейскими (и сарацинскими) мудрецами в связи с сомнениями хазаров [25] в вопросе выбора веры (через сто с небольшим лет та же ситуация повторилась в связи с выбором веры русским князем Владимиром, и иудеи, как свидетельствуют русские источники, вновь были посрамлены христианскими проповедниками). В «Италианской легенде» лишь кратко излагается результат: