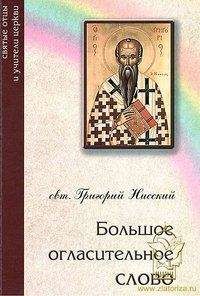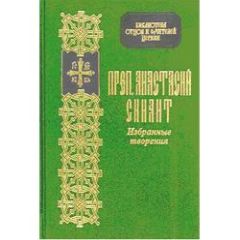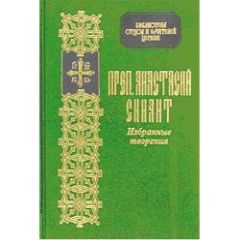Григорий Нисский - Избранные творения
Макрина. Она же говорит: по следам уже многих других, разыскивающих об этом предмете, и сам ты доискивался, чем наконец надлежит признать эти силы, вожделевательную и раздражительную, существенно ли принадлежащими душе и появившимися в ней вначале тотчас по ее сотворении или чем–то иным, вне души существующим и приданным душе нашей впоследствии. Ибо что усматриваются они в душе, это равно признается всеми, но что надлежит о них думать, этого в точности не обрел разум, чтобы о силах этих иметь твердое понятие, — напротив того, многие колеблются еще среди разных и погрешительных об этом мнений. Нам же, если бы для доказательства истины достаточно было внешнего любомудрия, искусно об этом рассуждавшего, излишним, может быть, сделалось бы предлагать на рассмотрение слово о душе. Но поскольку у внешних по кажущейся последовательности возымел силу свой взгляд на душу, а нам не дано этой власти, разумею власти утверждать что угодно, мы, как правилом и законом во всяком догмате, пользуемся Святым Писанием, — то необходимо, взирая па это, принимать одно то, что может быть согласным с целью написанного. Итак, оставив Платонову колесницу и впряженную в нее пару молодых коней, неодинаково друг с другом порывающихся, и правящего ими возницу (подобно этому, во всем этом Платон иносказательно любомудрствует о душе), — оставив и все то, что другой по Платоне философ, искусно заключая из видимого и со тщанием исследуя подлежащее теперь нашему рассмотрению, на основании этого утверждал, что душа смертна, — оставив и всех прежде и после любомудрствовавших в речи плавной или изложенной с каким–либо складом и размером, стражем слова сделаем Богодухновенное Писание, которое вменяет в закон не признавать доблестным в душе ничего несвойственного естеству Божественному. Ибо сказавший, что душа есть подобие Божие, этим утвердил, что все чуждое Богу не входит в определение души, потому что в вещах различных не может сохраняться подобное. Итак, поскольку ничего такого не усматривается в естестве Божественном, то никто и по разуму не предположит, чтобы могло это осуществиться в душе. Поэтому откажемся и наши догматы по правилам диалектического искусства подтверждать на умозаключениях и разложении понятий построенным знанием, так как подобный род в изложении неблагонадежен и подозрителен при доказательстве истины. Ибо всякому явно, что диалектическая утонченность имеет равную силу для того и другого: и для ниспровержения истины, и для осуждения лжи. Отчего и саму истину, когда предлагается с каким–либо подобным этому искусством, часто оставляем в подозрении, будто бы тонкость в том вводит ум наш в обман и отвращает его от истины. Но если кто примет безыскусное и обнаженное от всякого прикровения слово, то скажем ему свое мнение, сколько будет возможно, представляя взгляд на это вследствие указаний Писания. Поэтому что же такое говорим мы? Что человек — это словесное живое существо — обладает умом и сведениями, как засвидетельствовано даже не приемлющими нашего учения. Не изображало бы так нашего естества это определение, если бы видело, что раздражительность, похотливость и все этому подобное составляют сущность естества, ибо и в чем–либо другом никто не станет определять подлежащего, высказывая общее вместо особенного. Итак, поскольку вожделевательное и раздражительное равно усматриваются в естестве бессловесном и словесном, то никто не имеет основания особенное изображать в чертах общих. А что в изображении естества излишне и не идет к нему, то, как часть естества, может ли иметь силу при опровержении определения? Ибо всякое определение сущности имеет в виду особенность подлежащего. А что не принадлежит к особенности, то, как чуждое, в определении оставляется без внимания. Но сила раздражительная и вожделевательная признается общей для всякого словесного и бессловесного естества. Все же общее не одно и тоже с составляющим особенность. На основании этого необходимо заключить, что нет тождественных черт в числе тех, которыми по преимуществу отличается естество человеческое. Но, как, видя в нас силу чувствительную, питательную и растительную, никто по причине оных не станет опровергать данное выше определение души (из того, что одно есть в душе, не следует, что нет другого), так и приметивший раздражительное и вожделевательное движения естества нашего не имеет основания оспаривать определение, будто бы оно недостаточно показывает естество.
Григорий. Поэтому, что надлежит знать об этом, спросил я наставницу? Ибо еще не в состоянии я усмотреть, как можно от того, что в нас, отказаться как от чуждого нашему естеству.
Макрина. Видишь, говорит, что у рассудка есть некая борьба с этим, и старание, сколько можно, освободит от этого душу. Некоторые и преуспели в этом старании, как слышим о Моисее, что был он выше раздражения и похотения, потому что и то и другое свидетельствует о нем история, а именно что был он кроток паче всех человек (Числ. 12:3); кротостью же показываются пегневливость и отчуждение от раздражительности, и также, что не имел похотения ни к чему такому, на что, как видим, во многих обращена вожделевательная сила и чего не было бы с ним, если бы раздражение и похотение принадлежали естеству и входили в основание сущности, ибо ставшему вне естества невозможно оставаться и в бытии. Напротив того, если Моисей и бытие сохранял, и этого в себе не имел, то значит, что это есть нечто иное с естеством, а не естество: ибо естество в действительности есть то, в чем заключается бытие сущности. Отчуждение же от этого — в нашей воле, так что уничтожение этих качеств не только не вредно, но даже полезно естеству. Поэтому явно, что принадлежат они к числу усматриваемого вне, как немощи, а не сущность естества. Ибо сущность вещи есть то самое, что составляет вещь, а раздражение, по мнению многих, есть воскипение крови около сердца; другие же называют желанием воздать оскорблением начавшему оскорблять, а как думали бы мы, раздражение есть стремление сделать зло огорчившему. Ничто из всего этого не идет к определению души. И если похотение станем определять, что оно само в себе, то назовем желанием недостающего у нас, или при–растанием к наслаждению удовольствиями, или печалью о том, что не в нашей власти желаемое, или какой–либо привязанностью к приятному, когда наслаждение этим невозможно, ибо все это и подобное этому указывает на похотение, но не касается определения души. Но что иное усматривается в душе, представляясь одно другому противоположным, например боязнь и смелость, печаль и удовольствие, страх и презрение и всякое подобное движение, из которых каждое, по–видимому, имеет сродство с вожделевательным и раздражительным свойством души, в особенном определении изображает особенное свое естество. Ибо смелость и презрение дают разуметь некое обнаружение раздражительного стремления; умаление же и ослабление некое того же самого показывают происходящее в душе от боязни и страха. Печаль остается тем и другим, ибо бессилие раздражительости, по невозможности отомстить опечалившим, делается печалью, и отчаяние в получении желаемого и лишение вожделенного производят в уме угрюмое это расположение. И представляющееся противоположным печали, разумею исполненную удовольствия мысль, подобным образом делится между раздражением и похотением, потому что тем и другим равно правит удовольствие. Все это близко к душе, но не душа, а как бы возбуждающие зуд наросты, зарождающиеся в мыслительной части души, и они, как приросшие к душе, считаются частями ее, однако же не то, что душа в сущности.
Григорий. И точно видим, говорю деве, что и они немалым пособием служат к усовершению доблестным, ибо Даниилу в похвалу обратилось желание (Дан. 9:23; 10:11–19) и Финеес раздражительностью умилостивил Бога (Чис. 25:11); познали мы также, что начало премудрости — страх (Притч. 9:10), и от Павла слышали, что печали, яже по Бозе, конец есть спасение (1 Кор. 7:10), и не смущаться грозными событиями предписывает нам Евангелие (Лк. 21:9), и не бояться страшного не иное что есть, как знак смелости, которую мудрость причисляет к добрым качествам. А подобными этим местами Писание показывает, что такие движения не должно считать страстными, потому что страстные движения не были бы употреблены к преспеянию в добродетели.
Макрина. И наставница говорит на это: видно сама я служу причиной такого смешения понятий, не разделив слова об этом на части, чтобы к обозрению приложен был некий последовательный порядок. Поэтому теперь в рассуждении нашем да будет но возможности придуман какой–либо порядок, чтобы, когда обозрение будет происходить последовательно, подобные возражения не имели уже места. Ибо говорим, что душе по самому естеству свойственна сила созерцательная, обозревающая и обслуживающая существа, и через это сохраняет она в себе образ богоподобной благодати, потому что и Божественному, сколько гадает разум о его естестве, свойственно все обозревать и хорошее отличать от худого. А что в душе сопредельно тому и другому из противоположного, к тому и другому склоняется по собственной природе, и от чего при известном употреблении исход дела ведет к добру или к противоположному, каковы раздражение, или страх, или какое–либо из подобных движений в душе, без которых невозможно и представить естества человеческого, — все это, как рассуждаем, привзошло в душу извне, потому что в первообразной красоте не усматривается ни одной такой черты. Слово же об этом пусть будет у нас излагаемо пока, как в училище, чтобы через это избежать ему нападений от слушающих с намерением оклеветать. Писание повествует, что Божество неким путем и последовательным порядком приступило к сотворению человека. Ибо, когда пришла в бытие Вселенная, человек, как говорит история, не вдруг является на земле, но ему предшествовало естество бессловесных, а прежде их появились растения. Но этим, думаю, Писание показывает, что жизненная сила в некоем последовании присоединяется к телесному естеству, сперва проникая в бесчувственные твари, после этого поступая в чувствующее, а потом уже восходя до разумного и словесного. Поэтому одно из существ, конечно, есть телесное, а другое — разумное; из телесных одно одушевленное, другое неодушевленное, одушевленным же называю причастное жизни. А из живых существ одни одарены чувством, другие же лишены чувства. Опять из одаренных чувством одни словесны, другие бессловесны. Итак, поскольку не могла бы и чувственная жизнь состояться без вещества, и разумное иначе находиться в теле, как в соединении с чувственным, то поэтому в повествовании заключительным представлено сотворение человека, как объявшего собою всякий вид жизни, усматриваемый и в растениях, и в бессловесных. Ибо то, что питается и растет, имеет он из жизни растительной, потому что подобное этому можно видеть и в растениях: они привлекают себе пищу корнями, извергают же ее из себя в плодах и листьях, а то, что водится чувством, имеет от бессловесных. Дар же разумения и слова, рассматриваемый сам в себе, не разделяется с другими существами и составляет особенность естества человеческого. Но, как естество имеет в себе влечение к необходимому для вещественной жизни, и это влечение, когда бывает в нас, называется пожеланием, это же называется растительным видом жизни, потому что и в растениях можно видеть как бы некоторые естественно происходящие стремления наполниться свойственным и откинуть отростки, — так и принадлежащее собственно бессловесному естеству примешано к разумной части души. Так, бессловесным принадлежит раздражение, им свойствен страх, им и все иное, что совершается в нас в противоположность этому, кроме словесной и разумной) силы, которая одна служит преимуществом нашей жизни, имеющим в себе, как сказано, подобие Божественного образа. Но поскольку на основании изложенного уже выше разумная сила не иначе может иметь место в телесной жизни, как под условием силы чувственной, и чувство предваряет в естестве бессловесных, то через посредство одного необходимо происходит общение души нашей и с тем, что соединено с этим одним. И это суть движения, которые, происходя в нас, называются страстями и которые вовсе не на зло какое–либо даны в удел человеческой жизни (ибо виновным во зле был бы Создатель, если бы Им в естество вложены были необходимые побуждения к погрешностям). Напротив того, по известному произволению, орудиями или добродетели, или порока делаются подобные душевные движения, как железо, выковываемое по воле художника, какой вид желает сообщить ему мысль ковача, в тот и преобразуется, делаясь или мечом, или каким–либо земледельческим орудием. Итак, если разум — это преимущество нашего естества — возымеет господство над тем, что привзошло в нас извне, как слово Писания дало это разуметь, выразив загадочно, когда повелело начальствовать над всеми бессловесными, то ни одно из подобных движений не будет нам содействовать в услужении пороку, потому что страх производит в нас послушание, раздражение — мужество, боязнь — приведение себя в безопасность, да и стремление вожделения доставит нам божественное и чистое удовольствие. Если же разум кинет бразды и, подобно какому–то возничему, привязанному к колеснице, будет влачиться сзади ее, увлекаемый туда, куда понесет неразумное движение впряженных коней, тогда стремления обращаются в страсть, как это можно видеть и в бессловесных. Поскольку движением, естественно в них возбужденным, не управляет рассудок, то животные раздражительные, управляемые раздражительностью, губят друг друга; и рослые и сильные не пользуются силой к собственному благу, по неразумию делаясь достоянием существа разумного; похотливая и сластолюбивая деятельность не занимается ничем возвышенным, и ничто иное из усматриваемого в них не проводится каким–либо расчетом к полезному. Так и в нас, если страсти не будут направлены рассудком, к чему должно, но возьмут верх над владычеством ума, то человек, стремлением таковым страстных движений претворенный в скота, из разумного и богоподобного состояния переходит в неразумное и бессловесное.