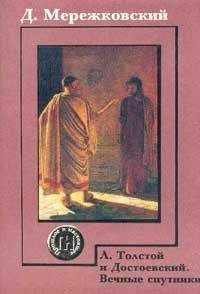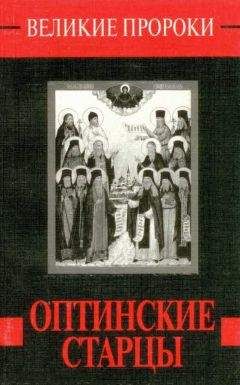Дмитрий Мережковский - Религия
Впрочем, в первых явлениях своих, благодаря почти невероятному чуду искусства со стороны художника и обману зрения со стороны читателя, князь Мышкин, несмотря на всю свою болезненность, производит впечатление высшего духовного здоровья, гармонии, ясности, уже почти достигнутого единства, чего-то почти такого же целого, «совершенно круглого», как Платон Каратаев. Кажется, никакие страсти и сомнения не могут нарушить в нем этого внутреннего равновесия. Даже о болезни его мы забываем, как будто она — случайность: мы уверены, что он исцелится окончательно, а пока то чуть-чуть смешное, жалкое, донкихотовское, что осталось от болезни в лице «рыцаря бедного», делает еще пленительнее лицо это, полное такой святой тишины и «торжественного благообразия». И долго еще, даже и тогда, как уже разразилась вокруг него буря, от которой суждено ему погибнуть, — сохраняется это впечатление тишины и ясности: среди хаоса земных страстей душа его по-прежнему ясна, как тот неподвижный просвет в голубое небо, который иногда является, рассказывают наблюдатели, среди столкнувшихся туч над самым водоворотом, в самом средоточии урагана и смерча. Почти до конца трагедии, до последней минуты развязки, мы все еще надеемся, что «чистый херувим», князь Мышкин, выйдет победителем из борьбы со «сладострастным насекомым», Рогожиным.
Но в том-то и дело, что это впечатление ненарушимого и окончательного единства — только обман зрения: когда совершится трагедия, мы поймем, что единства, в сущности, вовсе не было: мы сами так страстно хотели его видеть, что, действительно, увидели; поймем, что так же, как Раскольников, князь Мышкин должен был погибнуть между «двумя правдами»; так же, как в Раскольникове, — только еще более невидимо, потому что более бессознательно, — «два противоположных характера поочередно сменяются» и в князе Мышкине; и он также обречен на «преступление и наказание», только еще более страшные, неискупимые.
Впрочем, сознание Идиота до конца останется противоположным сознанию Раскольникова — совершенно христианским, не раздвоенным, единым или почти единым. Говорю почти, потому что здесь, и в сознании князя Мышкина, уже начинается едва уловимая раздвоенность, расколотость, трещина, которая дает ложный звук и напоминает о том, откуда он вышел и куда идет — о бессознательном хаосе, о безумии. «Две мысли вместе сошлись, — говорит Идиот, — это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо — я в этом всего больше укоряю себя. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так, — так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться».
Но не «две мысли, сошедшиеся вместе», не два сознания, а два чувства, две бессознательные стихии в своем неразрешимом противоречии уничтожают его подобно тому, как два исполинские жернова размалывают легкое зерно.
Невинная девушка Аглая и «блудница» Настасья Филипповна влюблены в Идиота; и он их любит обеих вместе. Любовь его к Аглае — еще не плоть и кровь, но уже стремление к плоти и крови; он любит ее не только для нее, но и для себя, как свое исцеление, возвращение в жизнь, как тот свет сознания, который должен окончательно победить шевелящийся в нем хаос безумия. Его любовь к Настасье Филипповне — чистейшим огнем пламенеющая христианская жалость, бесконечное самопожертвование; он любит ее только в духе, только для нее, а не для себя, против себя, потому что чувствует, что погибнет с нею, может быть, и ее не спасет. Но эта вторая любовь — для него такая же святыня, как и его «влюбленность» в Аглаю (это, собственно, не «влюбленность», но другого слова пока еще нет). Условия действительной жизни, грубые страсти грубых людей — боль самолюбий, чувственность и ревность — требуют, чтобы он сделал окончательный выбор. Да он и сам сознает, что, если бы выбрал одну и покинул другую, то избавил бы себя и окружающих от неимоверных страданий, может быть, спас бы обеих. Но он все-таки не может сделать этого выбора, без преступления или без кощунства над одной из двух равных святынь: покинув Аглаю, он окончательно восстал бы на себя, на Бога в себе, умертвил бы свою плоть для духа, — а ведь он уже стремится не к умерщвлению, но к воскресению плоти, не к бесплодной святости, а к святой плоти; покинув Настасью Филипповну, он умертвил бы душу свою, потому что вся душа его — один огонь сострадания к страдающим.
«— Как же? Стало быть, обеих хотите любить? — цинически спрашивает один из этих грубых людей, Евгений Павлович, жених Аглаи.
— О, да, да!
— Помилуйте, князь, что вы говорите, опомнитесь!
— Я без Аглаи… я непременно должен ее видеть! Я… я скоро умру во сне. — О, если бы Аглая знала, знала бы все… то есть непременно все. Потому что тут надо знать все, это первое дело. — О, да, я виноват! Вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват… Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить». — «И как это любить двух? — недоумевает Евгений Павлович. — Двумя разными любвями какими-нибудь? Это интересно… бедный идиот! И что с ним будет теперь?»
Князь Мышкин так и не поймет никогда, от чего он гибнет, и в чем, собственно, виноват перед людьми; не только им не скажет, но и сам о себе не узнает всего — «умрет во сне», в слепоте сознанья. Раскольников сделал то, чего не надо было делать: «убил старуху, а не принцип», пролил кровь, но не «переступил через кровь», «по сю сторону остался»; и после убийства чувствует он ту страшную тоску отвлеченности, оторванности от жизни, последнего одиночества, которая кажется людям «угрызением» и которая на самом деле есть только молчание совести. Князь Мышкин не сделает того, что надо сделать, испугается крови и плоти — и тоже не переступит, по сю сторону останется.
— Нет, князь, Аглая Ивановна не поймет, — говорит ему, между прочим, Евгений Павлович. — Она любила как женщина, как человек, а не как… отвлеченный дух. Знаете ли что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!
— Я не знаю… может быть, может быть…
Так вот в чем «вина» его, если только это можно назвать виною: он лишь стремится к плоти и крови, к воплощению, но не достигает их; все-таки остается среди живых людей «отвлеченным духом». В значительной мере это — вина и всего вообще одностороннего аскетического христианства. Оно говорит: да будут святы Плоть и Кровь, но не делает их святыми. И князь Мышкин ничего не делает, не потому, что не хочет, а потому, что не может, не умеет сделать. Другие, слишком живые, слишком страстные, страдающие люди делают за чего; и само его «неделание», в конце концов, оказывается преступнее, убийственнее, чем всякое действие для этих живых людей — для Аглаи, Настасьи Филипповны, Рогожина, да и для него самого. Он разнуздывает злейшие страсти своим бесстрастием; он хочет всех спасти и губит всех своею невыносимою и непонятною для живых людей, бесплотною, бескровною любовью. Он мог бы сказать, подобно Раскольникову: «О, если бы никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил, — не было бы всего этого!» В своем неподвижном созерцании, чистом «неделаньи», испытывает князь Мышкин ту же тоску отвлеченности, невоплощенности, невоплотимости, последнего одиночества, как Раскольников, — тоску, которую у князя Мышкина можно бы назвать угрызением добра.
Давно, еще там, в Швейцарии, в самом начале выздоровления, когда его сознание только что пробуждалось от безумия, он уже испытывал эту странную тоску. «Иногда в полдень зайдешь куда-нибудь в горы, станешь один посредине горы: кругом сосны, старые, большие, смолистые; наша деревенька далеко внизу, чуть видна; солнце яркое, небо голубое, тишина страшная. Вот тут-то, бывало, и зовет все куда-то, и мне все казалось, что, если пойти все прямо, идти долго-долго и зайти вот за эту линию, за ту самую, где небо с землей встречается, то там вся и разгадка, и тотчас же новую жизнь увидишь».
И перед самою катастрофою, когда он чувствует, что болезнь возвращается, что он скоро снова станет «идиотом» и уже навсегда уйдет от людей в свою «страшную тишину», — опять вспоминается ему эта вещая тоска: «Тогда он еще был совсем как идиот, даже говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют. — Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный день и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслью. Перед ним было блестящее небо, кругом горизонт, светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и терзался. Ему вспоминалось, как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдашний великий праздник, которому нет конца, и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать?. Каждое утро всходит такое же светлое солнце; каждое утро на водопаде радуга; каждый вечер снеговая, самая высокая гора, там, вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, — во всем этом хоре участница; каждая-то травка растет и счастлива! У всего свой путь, и все знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает — ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш. О, он, конечно, не мог говорить тогда этими словами и высказать свой вопрос; он мучился глухо и немо; но теперь ему казалось, что он все это говорил и тогда».