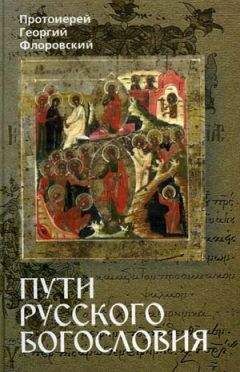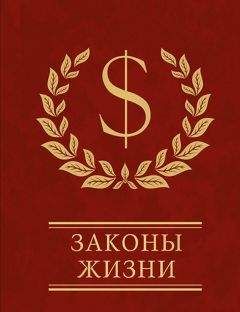Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I
В замыслах Пратасова два задания тесно сочетались: польза и порядок, дисциплина, — профессиональная годность и строгая определенность всего порядка писанными правилами или законом. Монашества Пратасов не любил, что, впрочем, и логично с государственной точки зрения, — он предпочитал бы воспитывать «духовное юношество» в более практическом и светском направлении. Мундир ему нравился больше рясы, во всяком случае. Об этом очень интересно рассказывает в своих воспоминаниях Ростиславов (срв. в особенности главу: «О преобразовании Петербургской Духовной Академии преимущественно по образцам, заимствованным из батальона военных кантонистов»)…
Только в 1840-м году, наконец, новые учебные планы для семинарий были разработаны и утверждены. С осени того же года они были введены в округах Московском и Казанском. При всем своем упорстве и настойчивости, Пратасов слишком во многом принужден был уступить, должен был довольствоваться компромиссом. Новые предметы в семинарскую программу были включены, чего он так добивался, — «общенародный лечебник» и сельское хозяйство. Но общий характер преподавания был оставлен без перемен. Только русский язык преподавания был узаконен для всех предметов, а латинский поэтому выделен в особую дисциплину. Новые языки и еврейский были оставлены только для желающих, по выбору. В преподавании философии было предложено ограничиваться психологией и логикой, не включая прочих отделов метафизики. «Общенародным» от этих перемен преподавание не стало, во всяком случае. Но была утрачена та сосредоточенность и стройность курсов, которые так выгодно отличали школьные уставы Александровского времени. Интересным нововведением был «класс приготовительный для священства», для уже окончивших, с более практической программой, куда введено было и посещение градских больниц в целях знакомства с простыми средствами врачевания…
В академических планах существенных перемен проведено тоже не было. Изменено было распределение предметов по курсам. Введены новые курсы и даже учреждены новые кафедры, — патристика, «богословская энциклопедия», педагогия, русская гражданская история… Однако, изменилось самое важное — дух времени…
Пратасов искал новых людей в духовном сане, кто бы сумел перевести его замыслы на более технический язык Церкви и богословия. После нескольких проб и неудач он нашел такого человека. Это был Афанасий Дроздов, тогда ректор Херсонской семинарии (в Одессе), из московских магистров, — его и перевели в 1842-м году ректором Петербургской академии (впоследствии архиепископ Астраханский, скончался на покое в 1876 г.). «Граф Пратасов в архимандрите Афанасии нашел некоторые любимые идеи и понес его на своих плечах» (слова Филарета М.)…
В академии Афанасий не занял кафедры и сам никаких наук не преподавал. Но ему было поручено руководствовать всех преподавателей, внушая надлежащие мысли о порученных им предметам. Кроме того, Афанасий был назначен председательствовать в особом комитете о классических книгах и конспектах. Весь удар был сосредоточен теперь на учебных программах…
И первая тема, вокруг которой завязался спор, письменный и устный, была о Священном Писании…
Афанасий не довольствовался тем, что исчислял два источника вероучения, Писание и Предание, как разнозначные и словно независимые. У него была явная склонность принизить Писание. И какая-то личная боль чувствуется в той страсти и безответственности, с которой Афанасий доказывает недостаточность и прямую ненадежность Писания. Современников Афанасий пугал своей заносчивостью и страстностью. «Мне кажется, что от него благодать Духа отступает, и он часто лишается мира и утешения о Святом Духе», писал о нем Евсевий Орлинский, сменивший его в должности ректора (впоследствии архиепископ Могилевский). «В этом положении он мучится, не знает, что с собою делать, — ловит какую-нибудь горделивую мечту и забывает, уносится или заносится, и опять действует жалко». Весь источник его именно богословской подозрительности, не только осторожности, в этой внутренней неуверенности, в этой нетвердости в вере. «Афанасий, да, Афанасий, а не другой кто, проповедует: для меня исповедание Могилы и Кормчая все — и более ничего», писал Горскому из Петербурга Филарет Гумилевский. Кормчая, — даже не отцы, и не Библия. Кормчей Афанасий хотел заслониться от сомнений. Афанасий, записывал Горский со слов самого митр. Филарета, «веровал в церковные книги более, нежели в слово Божие. Со словом Божиим еще не спасешься, а с церковными книгами спасешься…»
Афанасий был убежденным и последовательным обскурантом, [68] и это был пессимистический обскурантизм, от сомнений и безверия, весь в сомнении. Никанор Херсонский, с сочувствием и состраданием, зачертил этот жуткий и трагический образ. Афанасий не был ни невеждой, ни равнодушным. Это был человек страстно любознательный и любопытный, во всяком случае, — «ум острый, способный врываться вглубь предметов», говорит Никанор. Но ум гордый и презрительный. Русских книг Афанасий никогда не читал, и в более поздние годы литературного оживления, — «дребедень, братец ты мой…»
Читал он только иностранные книги, старые и новые. И всего больше его интересовала Библия, был он хороший гебраист. Интересовался историей древних религий, эпохой начального христианства, перечитал отцов всех до Фотия. Знал и современную «немецкую христологию», до Баура [69] и Штрауса. [70] Знал и естественные науки, — не только по книгам, но сам гербаризировал, коллекционировал минералы. И от этого изобилия знаний и интересов изнемогал и сомневался. Он боялся и подозревал самого себя. В поздние годы он писал много, «писал огромные исследования, полные и содержания, и систематической важности». Но все сожигал, — «писал, и сожигал…»
Впрочем, кое-что убереглось от этого истребления. Сохранилась рукопись книги «Христоверы и христиане», над которой Афанасий работал в свои последние годы. Это книга о происхождении христианства. Само заглавие очень любопытно. Автор различает «христоверие» и «христианство без Христа», и до Христа Иисуса. Историей этого христианства, этого учения и предания, он и занят. У апологетов ищет он «органические остатки» этого «христианства», «не того христианства, которое возводит свое начало к Иисусу Христу, а некоего иного ему предшествующего». Ессеи, Ферапевты, Филон — вот звенья в изучаемой им цепи фактов. «Усилия христоверных писателей изгладить из исторических памятников свидетельства о христианах задолго до христианской веры» не имели полного успеха. «Евангелие Маркиона» занимало видное место в этом процессе превращения христианства в «католическое христоверие…»
Как объясняет Никанор, Афанасий «подвергался наитягчайшим скорбям внутренним, подвергался от болезней ума, болезней не тех, которые бывают плодом простого умственного помешательства, но болезней, которые проистекают от избытка знания, от невозможности сочетать умственные антиномии, от разгрома, иногда временного и преходящего, умственных принципов, всосанных с молоком матери, сросшихся с душой». Вот этот жуткий «разгром» сердечных верований, эта скорбь во всем усомнившегося сердца, и была той зыбкой почвой, на которой выросла охранительная тревога Афанасия. «Человек будет жечь людей на костре, будет отдавать святыню на поругание, и однако будет оставаться в полууверенности, что он делает все это на пользу человечества». Так писал Филарет Гумилевский, обсуждая политику Афанасия…
Сотрудничество Афанасия и Пратасова, этот союз мрачного сомнения и властной самонадеянности, не мог быть длительным. Общего меж ними было немного. Они сошлись только в практических выводах, не в предпосылках. И через пять лет Афанасий был услан архиереем в удаленный Саратов…
Свою охранительную деятельность в Петербургской академии Афанасий начал с того, что запретил Карпову читать по собственным запискам, а вменил ему в обязанность читать строго по Винклеру. Правда, Карпов стал читать по Винклеру «критически», т. е. его безпощадно опровергая, и затем с охотой перешел на историю философии…
В первый же год своего управления в академии Афанасий представил через академическую конференцию в Святейший Синод составленный им учебник «Сокращенной Герменевтики», где излагал основные начала своего богословского мировоззрения. Филарет Киевский решительно отказался разбирать и рецензировать представленную книгу. Пришлось тогда просить об этом Филарета Московского. Филарет дал отзыв резкий и подробный…
Афанасий был этим отзывом оскорблен и возмущен, хотел привлекать Филарета к суду восточных патриархов…
Филарета глубоко смущала и тревожила эта попытка для возвышения значения Предания набросить тень на само Писание, которое якобы «не излагает образца здравого учения» и содержит «не все догматы». Афанасий слишком изощрялся показать недостаточность текстов Писания, непонятность, противоречивость или двусмысленность, и даже намеренную их темноту. «Дух Святый изглаголал Священное Писание, чтобы просвещать, а не чтобы затмевать», возражает Филарет. Разногласия и разночтения Афанасий считал несогласимыми и безнадежными. Филарет отвечает. «Если бы принять суждение рассматриваемой герменевтики за справедливое, мы не знали бы достоверно ни в Ветхом, ни в Новом Завете, которое слово есть слово Божие и которое человеческое. Страшно и помыслить о сем. Слава Богу, что суждение рассматриваемой герменевтики несправедливо». Потрясение доверия к Писанию есть ли средство «довольно осторожное», и не ставится ли этим и достоверность Предания под удар…