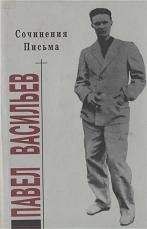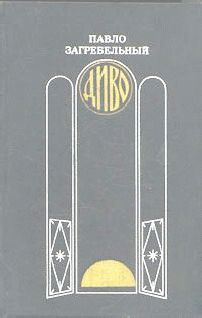Павел Флоренский - Павел Флоренский История и философия искусства
Чем глубже изображение по четвертой координате, т. е. чем заметнее в нем движение, тем ярче должна выступать анатомическая и физическая противоречивость изображенных образов, поскольку эти образы при неэстетическом подходе к изображению рассматриваются как во всех своих частях со–временные. Чем сильнее движения людей, тем более должны противоречить друг другу ракурсы отдельных частей, — если только художник желает дать изображение внутренне непротиворечивое. Но тут требуется вскрыть несколько точнее самое понятие об анатомической и физической противоречивости, которым пользуются, когда подходят к изображению не эстетически. Здесь речь может идти отнюдь не об анатомии или физике как таковых, но исключительно о способе проекции, и применение некоторого непривычного данному ценителю способа проекции судится как противоречие. Но, повторим, это — противоречие не действительности, а лишь тому или другому привычному приему проекции действительности на плоскости. Непонимающий этого не прошел и самых предварительных глав философии искусства. Ведь действительность, сама по себе, не может стоять ни в каком прямом отношении к проекции своей, и потому никакая проекция не может стоять в противоречии с действительностью. Противоречие данной проекции относится к некоторой другой проекции, согласно другому приему. В этом смысле любое изображение может быть объявлено противоречивым, коль скоро усвоен известный прием проекции, а данный с таковым не сходится. Так, для инженера перспективное изображение уже противоречиво, как еще более противоречиво оно в оценке персидского миниатюриста. В этом же смысле всякое изображение предмета движущегося в его движении — непременно окажется противоречивым привыкшему к линейной перспективе. Ведь зрительно самая суть движения в том и состоит, что единая точка зрения, единый горизонт и единая мера масштаба не соблюдаются; а между тем эти три единства предполагаются в самой основе перспективной проекции мира. Натурализм, как отправляющийся от пассивного мировосприятия, имеет склонность брать образы единовременными во всех частях и тем самым естественно склоняется к перспективности в проекции, хотя и тут перспектива не есть решение, единственно возможное. Разумеется, поскольку художник, хотя бы и самый натуралистический, все‑таки руководится до известной степени живым восприятием действительности и, следовательно, не может вовсе исключить временной глубины, постольку непременно вносит в создаваемые им образы разновременность отдельных частей. Тем самым и он в той или другой мере нарушит веление перспективы.
Но, во всяком случае, программно, в духе своего миропонимания, он будет бороться за перспективу и против времени, —то и другое есть почти одно и то же. Исторически натурализм, перспектива и борьба с временной глубиною выступают совместно. Весьма любопытное в этом отношении место читаем у Леона Баттиста Альберти[163], одного из самых видных вождей натурализма с перспективизмом, а именно —в его трактате «О живописи», относящемся к (1435—1436) году. Вот оно: «Некоторые изображают такие резкие движения, что на одной и той же фигуре одновременно видны и грудь и спина —вещь столь же невозможная, сколь и непристойная. Они же считают это похвальным, ибо слышали, что такие картины, где отдельные фигуры дико разбрасывают члены, кажутся очень живыми, и делают из них учителей фехтования и фокусников без какого‑либо художественного достоинства. Но этим не только отнимается у картины всякая прелесть и изящество, — такой образ действия обнаруживает и чрезмерно необузданный и дикий нрав художника».
Итак, обсуждаемый в ближайших параграфах вопрос имеет достаточную давность и возникал уже на пороге возрожденского искусства, в связи с перспективою и натуралистическими стремлениями. Мы не знаем, кого именно имеет в виду Альберти; но поскольку сам он возвещает доселе непризнаваемые приемы изображения перспективного, очевидно речь идет о художниках, удержавших нечто из традиций средневековых. И в самом деле, это неперспективное соединение изображения профильного и фасового, передней и задней плоскостей тела, в частности груди и спины, на каждом шагу служит иконописи и миниатюре при передаче движений.
LXXVIII
1924. Х. 11
Так, в лицевых Евангелиях нередко изображение Евангелиста Иоанна Богослова с учеником его Прохором; подобный же перевод часто встречается на иконах того же Евангелиста. Прохор изображен тут сидящим в пещере и записывающим слова Евангелиста. Он согнулся и направлен в правую сторону изображения, так что тело его представлено профильно. Но лицо дано в почти прямом повороте, обернутое влево и поднятое вверх, по направлению к Богослову. Таким образом в рисунках Прохора соединены по крайней мере два противоречивых ракурса, вследствие чего на изображении видны одновременно спина и грудь, равно как и в рисунке головы соединяется поверхности гораздо больше, чем сколько это может быть видимо при перспективном изображении.
На невнимательный взгляд, фигура Прохора покажется сперва горбатою и вывернутою. Более внимательное рассмотрение характеризует ее скорее как распластанную. Художественное же восприятие дает и понимание: в какой‑то определенный миг зрительного синтеза мгновенно исчезают и горбы, и распластанность, и анатомическая противоречивость ракурсов: изображение ожило. Мы видим теперь фигуру стройную, но с сильным движением, фигуру посредника между словом Евангелиста и хартией, на которой это слово записывается. Прохор обращен вниманием, а потому и лицом, к Евангелисту, исполнительною же волею —к записи, и потому сюда — всем телом, служащим воплощению в письмене священного повествования. Смысл фигуры Прохора — именно в его посредничестве, в его службе как орудии, и потому движение к Евангелисту и к бумаге, то и другое совершенно необходимо, чтобы передать средствами изобразительного искусства значение этой фигуры. Прохор, спокойно пишущий, был бы сам по себе, отпадал бы в художественном восприятии от Иоанна Богослова, и связь давалась бы тогда не самим восприятием, а литературно, т. е. условно в отношении самого изображения, внешним в отношении его сюжетным знанием данной иконы. Мы тогда могли бы отвлеченно знать, что Прохор —ученик Богослова и что он пишет не свое, а свидетельствует Иоанново; но мы отнюдь не видели бы этого своими глазами, а видели бы как раз обратное. В настоящем своем виде икона, независимо от того, насколько мы знаем ее сюжет, свидетельствует нам, нашему зрению, что Евангелие от Иоанна написано Иоанном, а не Прохором, хотя и Прохоровою рукою; а тогда она свидетельствовала бы обратное, вопреки своему сюжету.
Правда, ловкий, но не вдумчивый, т. е. не ощущающий реальности изображаемого, художник мог бы композиционно связать фигуры Иоанна и Прохора, т. е. скрыть зияющий разрыв их под единством линий и красок как таковых. Тогда получится цельное пятно, нечто цельное в смысле декоративном. Но композиция будет тут в противоречии с конструкцией изображения; и, как только глаз перестанет внешне скользить по этим линиям и красочным пятнам и зритель задастся вопросом о художественной полноте изображения, так это несоответствие между композицией и конструкцией в изображении и станет невыносимою фальшью. Горбы и «анатомические противоречия» фигуры Прохора предельно точно осуществляют конструкцию данной иконы как художественно изобразительное выражение ее сюжета, или, точнее, ее наименования.
Следует отметить еще один случай подобных горбов. Тут единообразный прием конструкции применяется многократно, что дает особый ритм, по силе художественного впечатления превосходящий таковую же ритмических склонений и поворотов пишущего Прохора. Здесь имеется в виду чин деисусного ряда наших древних иконостасов.
Прямо в середине непоколебимо вертикальный, как абсолютная ось мира — Спас Вседержитель. По сторонам от Него —предстоящие, по чину, согбенные и как бы с огромными горбами. Они стоят. Но если бы они только стояли самостоятельными вертикалями, то Вседержитель был бы таковым только по условному провозглашению иконописца но отнюдь не воспринимался бы нашими глазами, как ось мира, мир держащая, как устой и бытия и истины. Несмотря на догматику и доброе намерение художника, Сидящий на престоле виделся бы нами не более как первый между равными, вертикаль первая по счету, но не единственная по существу, не перво–вертикаль, все остальные собою определяющая и по себе ставящая. В лучшем случае Спас был бы тогда Императором, а предстоящие —придворными, но никоим образом это не было бы изначальное Отчее Слово, которым все стало и которым все просвещается, и которым судится мир. Нам, зрителям, нет дела до словесно объявляемого благочестия художника: оно должно свидетельствоваться самым делом, в данном случае — изобразительно. И если мы не видим известной идеи своими глазами, а тем более — если мы видим обратную, то никакие заверения не имеют силы и не должны иметь.