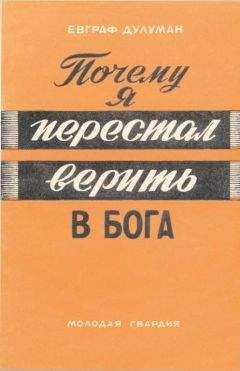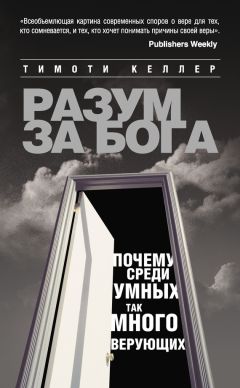Александр Щипков - Бронзовый век России. Взгляд из Тарусы
– Что для Вас было самым сложным в этот период?
– Самой сложной составляющей был всё-таки университет. Потому что там до сих пор работают люди, которые помнят эту историю и отчасти причастны к ней. Это самый сложный и самый тонкий момент. Одна смоленская журналистка как-то брала у меня интервью для короткого телерепортажа и спросила после записи, кто из преподавателей донёс на маму, в результате чего её выгнали, а потом посадили в тюрьму. Я ей долго объяснял, что никто не доносил. Не было в университете, тогда в пединституте, ситуации, чтобы кто-нибудь, зная о религиозных убеждениях мамы, написал на неё донос в КГБ или ещё куда-то. Наоборот, некоторые её коллеги-преподаватели прекрасно знали о её взглядах. Они их не разделяли, они не были религиозными людьми, но все они относились к этому с уважением и пониманием, считая, что это её право. И никогда на неё ничего не писали, никто ничего не доносил.
– Но если не преподаватели из университета, то кто и откуда узнал о религиозных взглядах Татьяны Николаевны?
– О ней стало известно не столько в Смоленске, сколько в Москве. У нашей семьи были очень большие контакты в разных городах. Когда мы пришли в церковь, мы начали общаться с огромным количеством людей по всей стране. У нас был свой круг общения, мы собирались вместе, молились, делали свой самиздатовский журнал, купили в тверской области дом, который стал местом, где мы собирались. В общем, мы были довольно активны и не могли не привлечь к себе внимания.
Когда мы в Смоленске напечатали наш самиздатовский журнал, к нам пришли с обыском, арестовали журнал, и мы поняли, что наша спокойная жизнь закончилась. Мы потеряли учебу, работу. Это был май-июнь 1978 года. Мы с женой учились на четвёртом курсе французского отделения, а мама там преподавала. У нас был первый ребёнок, которому не было и года. Потом сверху пришло жёсткое указание маму уволить и лишить учёной степени. Естественно, партийные организации, госбезопасность начали выкручивать руки руководству вуза, а руководство вуза – преподавателям, заставляя их голосовать. Сначала за увольнение с работы, а затем – за лишение учёной степени.
– И как же поступили преподаватели университета?
– В университете против мамы проголосовали все. Не было ни одного человека, который бы поднял руку «против» или воздержался. Если бы кто-нибудь поступил иначе, его бы уволили. Уволили бы всех несогласных, убрали бы ректора, проректора, если бы надо было, заменили бы полностью преподавательский состав. Мы прекрасно это понимали и никогда не осуждали их. Но они стали осуждать нас, потому что именно мы поставили их в сложную ситуацию. И мы много лет пытались понять, есть ли на нас вина. Может быть, надо было сидеть тихо и не высовываться? А с другой стороны, почему не высовываться? Так и сидеть под ярмом? Некто будет нам диктовать, как жить, что можно, что нельзя, запрещать ходить в церковь, запрещать крестить детей, а мы должны мирно это терпеть? Так ведь тоже нельзя. Хотя мы вовсе не призывали к смене власти или чему-то подобному. Мы не были антисоветчиками. Нас интересовали только церковные, религиозные вопросы.
– А были ли те, кто отказался участвовать в этом показательном процессе, пошёл на риск?
– Было совсем немного тех, кто не участвовал во всём этом. Например, мамина подруга, преподаватель математики Ирина Николаевна Демидова. Она сейчас очень старенькая и живёт в Петербурге со своей дочерью. Поскольку она была очень близкой подругой и очень часто бывала у нас дома, её вызвали в госбезопасность и спросили, почему она, уважаемый человек, преподаватель, не сообщила раньше, что видела у нас в доме иконы и что мы религиозная семья. На это Ирина Николаевна ответила, что не считала нужным об этом сообщать, это было наше право, и что мы не делали ничего плохого. В результате её выгнали с работы. Она была единственным человеком, который, хоть и не вставал на защиту, не бунтовал, не призывал оставить маму на работе, но просто сказал, что считает неправильным то, как поступили с мамой. За это она поплатилась работой. Так же как и мой друг, Игорь Маллер, мой крестник. Сейчас он служит протодиаконом в Смоленском Успенском Соборе, а тогда его за неделю до госэкзаменов пригласили в КГБ и предложили написать на меня какое-то заявление. Ему сказали – или пишешь, или прощаешься с дипломом. Он не написал, и его выгнали из института. Но таких людей были единицы.
А одна преподавательница пришла к нам домой поздно-поздно ночью, чтобы её никто не видел, потому что маму уже выгнали из университета. Пришла и попросила у неё прощения. Она проголосовала «против», но извинилась перед мамой, сказала, что её мучит совесть, но она не могла поступить иначе. Таких было также мало – она и ещё два преподавателя. Но это было для нас чрезвычайно важно. Потому что вопросы нравственного выбора в каком-то смысле намного важнее и интереснее, чем любая политическая проблема.
– А сегодня, спустя тридцать лет, вы нашли ответ на вопрос – была ли на вас вина за всё произошедшее?
– Это проблема, которую мы в семье обсуждали в течение многих лет, если не сказать десятилетий. С одной стороны, мы имели полное право поступать так, как мы поступили, – исповедовать свою веру открыто. Мы практически не скрывали своих убеждений, просто в Смоленске об этом узнали в последний момент, а в Москве, Ленинграде мы собирались, молились, могли, например, в кафе на Ленинградском вокзале громко петь «Отче наш» (в 1973 году) – молодые были, не без эпатажа. Но мы не скрывались, мы не жили подпольной жизнью, мы считали, что по Конституции имеем право на свободу совести и это наше право – жить, молиться, воспитывать наших детей так, как мы хотим. Мы стали жить так по факту. Но при этом мы действительно поставили людей в очень сложную ситуацию. И спустя много лет, мы стали задумываться о том, имели ли мы право так поступать. Ведь тогда мы думали о себе, о своих интересах, о своих правах. Мы не специально поставили людей перед выбором – мы были довольно наивны, и нам, честно говоря, в голову не приходило, что такое может случиться. И конечно, то, что произошло, стало очень сильным ударом. Мы даже не поняли толком, что случилось. Жизнь стала другой, она изменилась в один день. Разумеется, мы многих поставили в чрезвычайно сложную ситуацию, ситуацию выбора – голосовать или не голосовать, рисковать своим благополучием или нет. Ведь в то время встать на нашу защиту – значило потерять всё.
Вернувшись в Смоленск с бронзовым портретом спустя три десятилетия, мы это всё снова всколыхнули внутри университета. Мы сами сомневались, молились, но поняли, что доску всё-таки должны повесить. Я долго разговаривал на этот счёт с ректором университета Евгением Кодиным, он был не против, но сказал, что «должен решать коллектив». Это был сложный период и самые сложные переговоры, детали которых не следует выносить на публику. Но в конце концов ректорат принял положительное решение и выдал его нам на руки.
Лет за десять до того, как маму лишили учёной степени кандидата филологических наук и уволили «вследствие недостаточной квалификации», в нашем институте произошла очень похожая история. Преподаватель той же французской кафедры, еврей – помню только его фамилию – Масис – подал документы на выезд в Израиль. За это его точно так же предали остракизму, уволили и устроили общее собрание, на котором приказали голосовать за лишение учёной степени. Единственным человеком, который тогда проголосовал «против», была моя мама – Татьяна Щипкова. Не понимаю, почему её не уволили уже тогда за «пособничество сионизму». Наказание было «мягким» – всего лишь лишили очереди на квартиру (мы жили в общежитии).
– А как Татьяна Николаевна пришла к вере и религии?
– Мама была внучкой священника, он умер до её рождения. А поскольку её мать погибла в блокаду, её воспитывала бабушка-попадья. Мама, конечно, была человеком неверующим, комсомолкой, училась в университете. Но они жили с бабушкой в одной комнате; там всегда были иконы, всегда было Евангелие. Мама в церковь не ходила, но ходила бабушка, и бабушка за неё всегда молилась. Мама не была атеисткой – была просто неверующим человеком. При этом она была человеком культуры. Она всегда много читала, в том числе Евангелие, потому что каждый культурный человек должен знать Евангелие. Спустя какое-то время, когда мама стала заниматься лингвистикой и училась в аспирантуре, она начала изучать историю старорумынского и старофранцузского языков. Среди текстов, с которыми она работала, были Псалтирь и Деяния Апостолов. И она их читала по-французски, по-старофранцузски, по-румынски, по-старорумынски, по-русски. Ей надо было их сравнивать и изучать. Я думаю, что эти тексты не могли не повлиять на её образ мыслей. Она была лингвистом и не просто читала тексты – она погружалась буквально в каждую фразу, в каждое слово. Как грамматисту ей важно было именно построение фраз. Если объяснять по-простому, то она изучала систему управления в предложении одних слов другими. Такое углублённое погружение в священные тексты не может не дать результата. Я думаю, именно так мама и пришла к вере. В какой-то момент она просто почувствовала себя верующей.