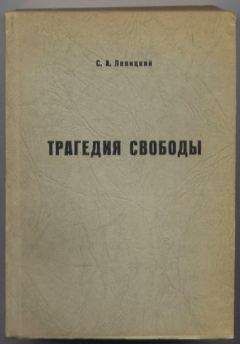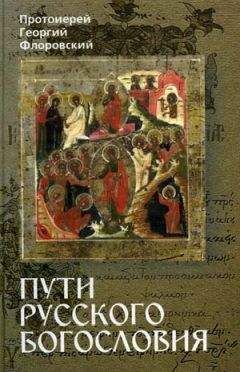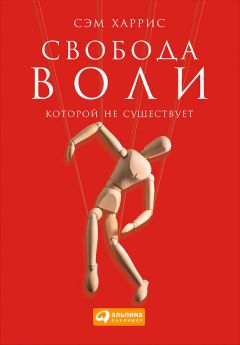Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть II
Антоний верит в общественное призвание Церкви, — строить Царствие Божие. Но он слишком решительно размыкает Церковь и мир, и мир оказывается особенно беспокойным соперником, когда предоставляется своей особой судьбе. Антоний всегда боялся церковного вмешательства, как обмирщения, но принцип аскетического невмешательства означал практическое отступление перед миром, — пусть оно задумывалось, как победное выступление из мира…
Но не в этом и прикладном вопросе главная слабость церковно-практической схемы Антония. Гораздо важнее чрезмерность его морализма, его моралистической психологизм. Утомляет это постоянное подчеркивание, что христианство есть «религия совести». И снова пастырством почти заслонено само священство. Сакраментальный момент в жизни Церкви и в пастырском делании остается совсем нераскрытыми В свое время Антоний, упрекал Влад. Соловьева именно за его сакраментализм.
«Мы не можем согласиться с тем что автор, по-видимому, уделяет на долю пастырей только священнодействование, на которое он опять же смотрит не как на акт моральный («возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы»), но как на акт только «мистический», т. е. как на какое-то священное волшебство. Любимая его речь — о таинствах, как материальных посредствах благодати, о духовно-мистическом теле Церкви и т. п.».
Антоний, очевидно, не заметил, что его упреки поражают не только Соловьева, но и весь сонм отцов, от Златоуста и даже от Игнатия Антиохийского с его «врачевством бессмертия», и до Кавасилы и Симеона Солунского. Антоний же в пастырском действии выдвигает вперед не священство, но заботы об «общественном благе»…
Достаточно сравнить пасторологические статьи Антония с «дневником» о. Иоанна Кронштадтского, чтобы почувствовать всю неполноту и всю духовную нескладность этого одностороннего морализма. Строго говоря, это все тот же гуманистический идеал «общественного служения», перенесенный в Церковь, идеал деятельного альтруизма. Антоний много говорить о молитве, и в ней справедливо усматривает основной устой пастырского действия. Но он слишком мало говорит о таинствах. И самую молитву он понимаете как-то психологически, как преодоление духовного одиночества. Характерно, что, «догматизм» богослужебного чина (у Дамаскина и др.) он считал уже «низшей ступенью», по сравнению с целостным вдохновением первых веков, хотя в этой богослужебной поэзии все еще много духовного восторга и созерцаний. К позднейшему «византинизму» Антоний относится скорее сурово и сожалеет, что «наше религиозное сознание воспитано совершенно в направлении этого, исключительно отрицательного, склада духовного саморазвития, исчерпывающегося в одной борьбе со страстями и мало знающего о положительных плодах царствия Божия, о жизни радостной любви к людям». Всегда чувствуется этот некоторый привкус гуманистического оптимизма…
Антоний возводит свое пастырское мировоззрение к святоотеческому источнику, и не без основания. Но еще сильнее в нем влияние современности. Психологически Антоний гораздо ближе к славянофильской публицистике, чем даже к русскому «Добротолюбию». И при всем своем отталкивании от «западной эрудиции» Антоний остается с ней слишком связан. Отказаться от западных книг еще не значить освободиться от западного духа. Уже в свое время была отмечена близость пастырских идей Антония к воззрениям С. А. Соллертинского [123] в его книге: «Пастырство Христа Спасителя» (1887). И здесь мы, с полной очевидностью, возвращаемся на почву «западной эрудиции». Для Соллертинского все пастырство и сводится к «христианскому учительству», и самое Искупление истолковывается, как учительство: «сообщение людям истинных понятий и истинных целей для человеческой деятельности». Об этом и говорит основное имя: Сын Человеческий. Нагорная Проповедь и есть для Соллертинского как бы «символ веры» первозданной Церкви, некая программа Царствия Божия. Антоний движется в том же кругу идей…
И еще острее его морализм чувствуется в его догматических опытах. К началу 90-х годов потребность в новом богословском синтезе становилась все более чувствительной. «Схоластическое» богословие давно уже не удовлетворяло, «исторический» метод не давал именно синтеза, не созидал системы. И выхода стали у нас искать в нравственном раскрытии догматов. Догматика перестраивается с нравственной точки зрения. Антоний был одним из самых ярких представителей этого тогда нового богословия. Всегда у него просвечивает апологетическая задача, он стремится оправдать догмат из нравственного сознания. Оправдание это не в том, что догматы имеют нравственное приложение, но в них заключается некая «нравственная истина», и в них именно обосновывается. Так истина Триединства Божия есть прообраз человеческого единства и любви, когда снимается непроницаемость «я» и «не я». И в этом же нравственная идея догмата о Церкви. Догмат Триединства дает «метафизическое обоснование нравственного долга любви», как учение о загробном воздаянии обосновывает добродетель терпения. Добродетель не обоснована ни в индивидуализме, ни в пантеизме.
«Здесь то и является на помощь Святая Троица, то блаженнейшее и истиннейшее бытия, где свобода и вечность Лиц не сокрушает единства, где есть место и свободной личности, но где нет безусловной личной самозамкнутости. Учение любви там закон внутренний, а не внешний долг, и, однако, любовь лиц друг к другу не есть себялюбие, так что она вполне сохраняет значение любви нравственной».
Было бы напрасно расчитывать победить разделения в бытии и в каждой душе человеческой, если бы не было откровения Святой Троицы. «Без этого святого догмата Евангельская заповедь о любви была бы. бессильна…» Антоний приводить догмат не к духовному созерцанию, но к «нравственному опыту». Он гораздо более осторожен в метафизике, чем были святые отцы. В этом его слабость. И есть у него несомненное сходство с Кантом, с его методом во второй Критике. Не есть ли «нравственный опыт» Антония все тот же «практический разум»? И не в том ли оправдание догмата, что в нем осуществлены идеальные предпосылки добродетелей? Сам Антоний признает за Кантом: «он умел отвлечь почти без ошибок от каждой истины веры ее практическую идею…»
Вся недостаточность нравственного толкования догматов очень резко открывается в учении Антония об искуплении. За этим учением чувствуется живой и подлинный духовный опыт, некая личная встреча со Христом, как Спасителем…
«Эти Его страдания о моих грехах являются моим искуплением, это Его долготерпение моим спасением, не в смысле только ободряющего примера, а в том дёйствительном смысле, что, зная Иисуса Христа, оплакавшего мою греховность по любви ко мне, своим стремлением идти путем Его светлости делаю Его достоянием своего существа. Им живу, Им оживляю в себе нового человека…»
Но при всей подлинности этого опыта в нем есть непобежденный привкус психологизма или пиетизма. И не достает объективности, не достает метафизической перспективы. В этом митр. Антоний решительно уклоняется от святоотеческого предания и мерила. Он рассуждает просто в другом плане. И вопрос ведь не в том, чтобы заменить слишком «юридическое» понятие удовлетворения («сатисфакции») более богоприличным началом любви. Нужно понять и объяснить место Искупления в домостроительном плане, как он объективно осуществился… Очень резко и несдержанно Антоний отвергает «школьно-катихизическое» учение об искуплении, т. наз. «юридическую теорию», действительно перенятую из западной схоластики, — «я никогда не назову его церковным». Но он идет много дальше, находит неуместным и самое понятие «жертвы». Апостольские тексты он толкует в переносном и описательном смысле. И впадает в самый нестерпимый импрессионизм, стараясь объяснить смысл Крестной Смерти. «Телесные муки и телесная смерть Христова нужна прежде всего для того, чтоб верующие оценили силу Его душевных страданий, как несравненно сильнейших, нежели телесные муки Его». Но падший человек одержим нечувствием. Без чувственного потрясения он не смог бы проникнуть в эту тайну душевной скорби.
«Наша природа так груба, так порабощена телесным ощущением и страхом смерти, что проникнуться разумением чисто душевных мук, состоявших у Христа в оплакивании чужой греховности, ей очень трудно, если это не сопряжено с телесными страданиями и оскорблениями от ближних».
Очистительная кровь, спасительный крест, живоносный гроб, — все это только образы, означающее «общее понятие» искупительной страсти: «здесь берутся наиболее впечатлительные для нас моменты Его подвига». Антоний, впрочем, допускает, «что по связи души с телом здесь имеется и более глубокий таинственный смысл». Однако, для спасаемого всего важнее именно это впечатление, то чувство умиления, которое в нем вызывают распятие и крест. «Скорбь Христа за нас соединила нас с Ним и эта самая скорбь, становясь предметом нашей надежды и любви, пересозидает нас…»