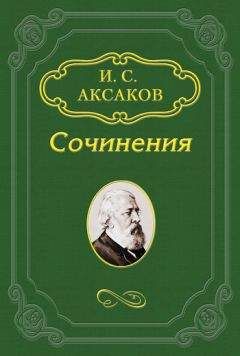С. Н. Булгаков - Свет невечерний. Созерцания и умозрения
2. Тварное ничто.
Из чего создан мир? в чем основа тварности? Бог создал мир из самого себя, из своего существа, — отвечает Я. Беме [538]; мир есть модус абсолютной субстанции, — на разные лады, но в одинаковом смысле отвечают Дж. Бруно, Спиноза, разных оттенков пантеисты и монисты; следовательно, напрашивается неизбежное заключение — мира нет в его самобытности и относительности, а существует только Абсолютное. Мир создан из ничего, — учит христианское откровение. — Между Богом и тварью, Абсолютным и относительным, легло ничто. Ничтожество — вот основа твари, край бытия, предел, за которым лежит глухое, бездонное небытие, «кромешная тьма», чуждая всякого света. Это чувство погруженности в ничто, сознание онтологического своего ничтожества, жутко и мучительно, — бездонная пропасть внушает ужас даже в сказках (этот мотив встречается и в русской народной сказке). Спастись от ужаса пред небытием можно, лишь отойдя от головокружительной бездны и обратившись лицом к Солнцу, — источнику всякой полноты, переместив свой бытийный центр из себя за пределы себя, в Бога. Тогда небытие отходит в небытие, исчезает, как тень, рассеивается, как призрак; небытия уже нет, а есть лишь торжествующие, благодатно изливающиеся лучи бытия. Но когда меркнет в душе солнечный свет, когда тварь замыкается в себе и перестает чувствовать себя в Боге, — опять поднимается леденящая дрожь, ничто ощущается как мертвенная, зияющая дыра, как курносая смерть, и тогда себе самому начинаешь казаться лишь пустой скорлупой, не имеющей бытийного ядра. «Сокроешь лице Твое — мятутся; отнимешь дух их — умирают и в персть свою возвращаются; пошлешь дух Твой — созидаются, и Ты обновляешь лице земли. Да будет слава Господу во–веки!» (Пс. 103:29—31).
Знание о ничто как основе мирового бытия есть тончайшая интуиция твари о своей тварности. Ты сотворен — это значит: все тебе дано, даже ты сам, тебе же принадлежит, от тебя пришло только это подполье, ласково и заботливо прикрытое розами бытия. Гениальностью и ничтожеством отмечена природа человека. Подполье есть изнанка бытия, мнимая величина, получившая реальность. Тварь вся имеет подполье, хотя может и не знать об этом, в него не опускаться: это неведение есть привилегия детства и достижение святости; опускаясь же в него, всякий переживает жуткий холод и сырость могилы. Хотеть себя в собственной самости, замыкать себя в своей тварности как в абсолютном — значит хотеть подполья и утверждаться на нем [539]. И поэтому настоящий герой подполья есть сатана, возлюбивший себя в качестве бога, утвердившийся в самости своей и оказавшийся в плену у собственного подполья. В своем ничто он захотел видеть божественное все, и принужден замкнуться в царстве Гадеса [540], населенном призраками и тенями, как в чертогах светлого бога. Красота Люцифера и демона, так манившая к себе Байрона и Лермонтова [541], есть только поза, таит в себе обман и безвкусие, как дорогие и роскошные одежды с чужого плеча, одетые на грязное белье, как роскошествующая жизнь в долг и без всякой надежды расплаты, как гениальничающая бездарность. Под демоническим плащом таится Хлестаков и Чичиков, и феерический демон обращается в безобразного черта с копытом и насморком. Пошлость есть скрываемая изнанка демонизма [542].
Две бездны в душе человека: глухое ничто, адское подполье, и Божье небо, запечатлевшее образ Господен. Ведома ему боль бессилия, бездарности: стыдясь нищеты своей, брезгливо изнемогает он в завистливом и душном подполье. Но любовь спасающая дает крылья гениальности, она научает стать бедняком Божьим, забыть свое я, зато постигнуть безмерную одаренность травки, воробья, каждого творения Божия. Она научает всему радоваться как дитя, благодарить как сын.
Обычно страшимся приближаться к тем безднам, истоптанными тропами срединности бродим в жизни безбедной. Но не для сонного покоя, — сыном бездн, повитым грозой и опасностью, сотворен человек. Пугливо сторонимся от пропасти, желая вовсе забыть о крае. Не впадаем в смерный грех, ибо и добродетельны в меру, и порочны по мелочам, безнадежно рассудительны и невозмутимо трезвы. А Богу не нужна наша расчетливость, Он зовет к безумию любви Своей. Бог обойдется без нас в деле Своем, ибо знает пути Свои, но в сердце человека, затворившего сердце, воцаряется ад — бессилия любви. На безднах утверждено бытие человека, от них не укрыться под кущей обыденности…
Однако можно ли говорить о бытии небытия, о сущем ничто? Ведь еще древний старец Парменид изрек:
Этого нет никогда и нигде, чтоб не сущее было; От такого пути испытаний сдержи свою мысль [543].
Парменид учит нас, что есть только бытие, небытия же вовсе не существует; правда, он имел при этом в виду свое неподвижное, абсолютное Единое, субстанцию мира, которой только и принадлежит бытие, вне же ее ничего нет. В применении к такому понятию абсолютного, очевидно, не имеет никакого значения идея небытия. Однако не так просто обстоит это в применении к действию Абсолютного, к творческому акту, которым оно вызывает к существованию несуществовавшее доселе, т. е. небытие, творит из ничего.
Здесь нам необходимо еще раз остановиться на анализе не в применении к тварности. Может быть два значения этого не по смыслу тварного ничто, которым соответствуют два вида греческого отрицания: ου и μη (d privativum к этому случаю совсем не относится): первое соответствует полному отрицанию бытия — ничто, второе же лишь его невыявленности и неопределенности — нечто [544]. Этот второй вид небытия, μη öv, собственно говоря, скорее относится к области бытия. Меон как возможность возможностей есть всеобщая матерь бытия, чрез ложесна коей проходит всякое бытие (недаром же к помощи μη прибегают даже такие поборники универсальной дедукции всего бытия, как Гегель, а равно и Коген с его учением о «чистом происхождении»12). Меону принадлежит поэтому все богатство и вся полнота бытия, хотя и потенциального, невыявленного. О нем как о небытии можно говорить поэтому лишь в отношении к уже проявленному бытию, но отнюдь не в смысле пустоты, отсутствия бытия. Нечто есть, меон существует, и между ничто и нечто лежит несравненно большая пропасть, нежели между нечто и что, подобно тому как большая пропасть отделяет бесплодие от беременности, нежели беременность от рождения. Меон есть беременность, укон (ουκ öv) — бесплодие. Чтобы из небытия могло возникнуть некое что, укон должен стать меоном, преодолеть свою пустоту, освободиться от своего бесплодия.
Итак, еще раз, в каком же смысле мир создан из ничего: из укона или меона? Эта расчлененная постановка вопроса уже намечает две возможности, соответственно двойственности смысла тварного не. Если допустить, что мир возник из божественного меона, это будет значить, что он вообще не создан, но зарожден или эманировал, вообще так или иначе осуществился в Боге. Грань между миром и Богом стирается, мир тогда есть меон Бога, — мы приходим к пантеизму с проистекающим из него либо акосмизмом, либо атеизмом. Другая возможность, дли нас единственно допустимая, состоит в том, что мир создан из ничего в смысле укона, и потому первым, основным и существенным актом творения было облечение его меоном. Это превращение укона в меон есть создание общей материи тварности, этой Великой Матери всего природного мира. В этом основном и предельном акте творения мы имеем дело с полной непостижимостью, ибо понять, каким образом в уконе возникает меон, нельзя, здесь опять предел для мысли. Тварь не может постигнуть своего собственного сотворения, оно для нее всегда останется загадкой, чудом, тайной, но опознать совершившееся вполне по силам человеческому сознанию, и анализ этого самосознания составляет задачу и для мысли, которая должна старательно распутать этот узел онтологических сплетений, не разрывая его нитей.
Однако снова поднимает свой голос древний старец, настаивая, что существует только сущее, το öv (а как его состояние и μη öv), не сущего же, ουκ öv, вовсе нет. Как же и в каком смысле может не сущее послужить основой творения? Да, в Абсолютном Едином нет места небытию как укону, — прав мудрый старец. Но, должны мы тем не менее настойчиво указать, в Абсолютном нет и бытия, которое соотносительно небытию, с ним сопряжено, не существует вне небытия; последнее ведь только и полагается в бытии, на фоне бытия, как его грань. Абсолютное выше бытия, вот чего не познал Парменид, благодаря чему он и вовлек его в диалектику относительного, т. е. бытия.
Творением Бог полагает бытие, но в небытии, иначе говоря, тем же самым актом, которым полагает бытие, Он сополагает и небытие, как его границу, среду или тень. Omnis defmitio est negatio [545], сказал Спиноза, всякое бытие состоит из да и нет, по гениальному выражению Я. Беме. Поэтому, хотя и прав остается Парменид, что в Абсолютном, как пребывающем выше бытия, не существует и небытия, но Бог, полагая относительное, т. е. бытие, косвенно дает бытие и небытию. Бог есть виновник–не только бытия, но и небытия, эта головокружительная по смелости и глубокомыслию формула принадлежит не кому иному, как таинственному автору «Ареопагитик» и комментатору его св. Максиму Исповеднику, — столпам православного богословствования [546]. Они опираются, конечно, при этом на работу античной мысли и, надо думать, прежде всего на Платона, который в удивительном «Пармениде» своем, а также и в «Софисте» дал мастерский анализ вопроса о связи бытия и небытия [547]. Анализ этот отчасти был воспринят в новейшей философии Гегелем [548] и вообще составляет неотъемлемое достояние философской мысли.