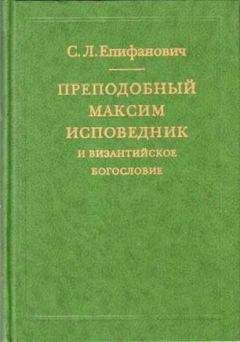Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
Жизнь епархии предстает из вопросов Феогноста как весьма нелегкая. «Вопрос 17. Аще мышь начнеть агнець, достоить ли имъ служити? — Ответ. Достоить, хотя бы четвертая часть осталась»[924]. «Вопрос 12. Можно ли совершать литургию иерею после того, как он ходил на войну и совершил убийство? — Ответ. Это запрещено канонами»[925]. «Вопрос 9. Можно ли давить виноград, добавлять воды и предлагать это на божественной литургии? — Ответ. Где не бывает вина и есть нужда провести литургию, пусть делают так»[926]. Патриарх проявляет терпимость и гибкость: по всем вопросам он старается отвечать в духе толерантности, применяясь к тяжелым условиям епархии. Он разрешает крестить по многу детей сразу, не осуждает живущих вне церковного брака, позволяет духовным лицам разного ранга подменять друг друга и т. д. Невозможно поверить, что речь идет о «преемнике» Фотия, утверждавшего, что любой кирпичик, вынутый из здания православия, немедленно приведет к его крушению. Пожалуй, единственный вопрос, по которому Иоанн Векк сохраняет непреклонность, — это проблема священника–убийцы. Ситуация, при которой иерархам приходилось вступать в бой и проливать кровь, — это самый наглядный пример экстраординарности тех условий, в которых существовал византийский клир в Орде. Патриарх, согласно греческой версии его ответа, все‑таки не считает возможным дозволить служение священнику, обагрившему руки кровью, но и тут не все ясно — древнейшие рукописи русского перевода в этом месте расходятся с греческой версией и утверждают прямо ей противоположное. Заметно, что Иоанн Векк наследует традициям миссионерской гибкости, идущим от Николая Мистика.
Многие вопросы Феогноста характеризуют его деятельность как миссионерскую: «Вопрос 22. Приходящимъ от несториан и от яковит, как подобает крещати? — Ответ: Подобает ему проклята свою веру… Вопрос 23. Приходящимъ отъ татаръ, хотящихъ креститися, и не будет велика съсуда, въ чемъ погружать его? — Ответ: Да обливаетъ его трижды, глаголя «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа»[927]. Из текста памятника следует, что почти вся деятельность епископа проходила в дороге, на ходу. «Вопрос 13. Можно ли святые дары носить по дорогам? — Ответ: Да будет так»[928]. «Вопрос 21. Подобает ли, свещавъ трапезу, преносити отъ места на место, и на ней литоргисати? — Ответ. Подобаетъ, занеже по нужи есть. Ходящии людие не имеють себе упокойна места— но стрещи съ страхомъ и трепетомъ: въ чисте месте поставити ю и служити на ней»[929]. Как видим, Константинопольский патриарх не только проявляет большую терпимость, но и демонстрирует некие общие познания о кочевниках и их психологии. Из его ответа следует, что Византия уже сталкивалась с подобными проблемами и что к своему закату Империя все‑таки смогла выработать некую целостную и гибкую идеологию миссионерства, осуществлявшуюся смелыми, предприимчивыми и непредвзятыми энтузиастами.
Мы знаем еще по крайней мере пять имен ордынских иерархов[930], но ничего конкретного о них не известно. От июля 1356 г. у нас есть известие о назначении митрополита Сарая[931]. Какой‑то Мануил, епископ неких «Савров» (τών Σαυρών), был низложен в июле 1389 г., но можно ли отождествлять это название с Сараем, неизвестно[932]. О том, что православие до какой‑то степени пустило корни в Орде, свидетельствует найденная в Астрахани иконка местного производства, на которой изображен св. Георгий. Личность святого удостоверяется надписью по–гречески — однако сам он имеет при этом абсолютно монголоидные черты лица![933]
IVВ XIV в. византийский клирик воспринимал епископство у варваров как тяжкое испытание. До нас дошла «расписка» иеромонаха Кирилла, написанная им в 1338 или 1339 г.: «Посылаемые к христианскому народу [или «пастве» — χριστκχνικόν λαόν], находящемуся под властью народа нечестивого (έθνος ασεβές), должны держать в уме, что они взяли на себя апостольский подвиг и что им поручено идти путем честных учеников Христовых. В их адрес [Спасителем] было произнесено много слов, несущих [напоминание об] опасностях, а также вот какие: «Вот, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Итак, поскольку я сам, Бог весть за каких грехи, избран святой Божьей церковью и назначен в церковь Сидскую, которой ныне управляет языческая и нечестивая рука (εθνική χειρ ασεβής), и существует подозрение, что я, уже рукоположенный, никогда не доеду туда, либо, даже доехав, вернусь обратно в сей царственный град ради передышки и освобождения от предстоящих трудностей, я делаю в письменном виде сие обещание… не ожидать и не искать повода, чтобы медлить и откладывать свой отъезд… и не возвращаться сюда, бросив вверенную мне паству, без великой необходимости и нужды… и я обещаю вообще не докучать патриарху, не настаивать и не просить себе в управление, упасение и попечение другую церковь»[934].
Картина, вырисовывающаяся за этим документом, сурова — но реалистична. Реализм ощущается и в миссионерской деятельности патриархата в целом. Так, в сентябре 1364 г. в патриаршем документе № 221 упоминаются «Алания, Кавкасия и Ахохия»[935]. Согласно мнению С. Н. Малахова, загадочный топоним Ахохия соответствует областям у истоков реки Кум, куда как раз в эту эпоху мигрировало абазинское население; в таком случае «появление абазинского этнотопонима в византийских церковных документах — свидетельство… пребывания греческого клира в Верхнем Прикубанье и внимательного изучения им меняющейся этнополитической ситуации»[936].
Что касается новых епархий, то, помимо Золотой Орды, они появились и в других варварских странах: в 1317 г. были основаны архиепископии Литвы и Кавказа[937]. Впрочем, первый архиепископ Кавказа, Савва, видимо, сидел не у своей паствы, а в ближайшем центре цивилизации — Сугдее[938]. Что касается Литвы, то эти земли окормлялись иерархами Руси. Патриарх Филофей в 1371 г. увещевал митрополита Алексия: «Знай также, что я написал великому князю литовскому, чтобы он, по старому обычаю, любил и почитал тебя… и когда ты отправляешься в его землю, оказывал бы тебе великую честь, внимательность и любовь, так чтобы ты мог безбедно путешествовать по земле его. И ты со своей стороны старайся, сколько можно, иметь к нему такую же любовь и расположение, как и к прочим князьям, потому что под его властью находится христоименный народ Господень, нуждающийся в твоем надзоре и наставлении, и тебе крайне нужно иметь с ним любовь, дабы видеть и поучать как его, так и народ Божий. Исполняй это со всем усердием, без всякого прекословия»[939].
Литовский князь Ольгерд (1345—1377 гг.) какое‑то время преследовал христиан (в Византии были даже канонизированы литовские мученики и сохранилось их греческое житие), но потом начал склоняться к крещению. Князь очень благоволил православному иерарху Роману (1355—1362 гг.). С одной стороны, последний, будучи тверичом, не должен был бы рассматриваться в этом исследовании; но с другой стороны, Роман выполнял приказы Константинопольского патриарха, а кроме того, рассказ о нем, содержащийся у Никифора Григоры, в первую очередь отражает византийские представления о миссии: «[Ольгерд] поначалу придерживался чуждых верований и поклонялся солнцу, но недавно пообещал стать нашим единоверцем… [Ольгерд] охотно слушал [Романа,] когда тот во время частых посещений наставлял его в благочестии и учил изречениям пророков и апостолов, так что и сам [князь] мог цитировать их наизусть… И за то, и за другое [Ольгерд] любил Романа и был уже близок к тому, чтобы принять божественное крещение, заранее усовершенствовавшись в [усвоении] догматов благочестия благодаря тому, что [Роман] часто учил и наставлял его. И благое дело в отношении этого народа достигло бы цели в религиозном отношении»[940]. Однако условием крещения Ольгерд ставил перемещение митрополичьей кафедры Руси в Литву, а это по разным причинам, которые нас сейчас не должны занимать, не получилось[941]. Картина взяточничества и склоки внутри византийского клира, открывшаяся Ольгерду в связи со спорами о Русской кафедре, так поразила князя, что он «со множеством подданных» отказался креститься, заявив, что лучше уж поклоняться солнцу, чем тому бесу любостяжательства, который сделался ромейским идолом[942]. Ольгерд умер язычником, а в 1386 г. Литва, объединившаяся с Польшей, приняла католичество. Византия упустила свой последний шанс на религиозную экспансию.
VОбразцом нового, все равно весьма высокомерного, но более практичного отношения к миссионерству можно назвать выдающегося церковного деятеля поздней Византии Григория Паламу, который, очутившись в 1354 г. в мусульманском плену, описал его в письме к своей пастве следующим образом: «Видя, как в Азии христиане и турки вперемешку живут, путешествуют, ведут дела, я скажу… мне кажется, что через этот замысел (οικονομίας ταύτης) правда Господа нашего Иисуса Христа, Всевышнего Бога, была явлена (φανεροϋσθαι) даже этим, самым варварским изо всех варваров (καί αύτοις τοΐς πάντων βαρβάρων βαρβαρωτάτοις), чтобы нечем им было оправдаться перед грядущим, уже близким Страшным Судом. По этой причине и были мы преданы в их руки»[943]. Находясь в плену, Палама беседовал на божественные темы с внуком эмира Орхана, Измаилом (по просьбе последнего), вел религиозные диспуты с некими «хионитами», чья конфессиональная принадлежность нам сейчас неважна[944], но, что особенно существенно, в Никее проповедовал христианство прямо посреди улицы. Сам Палама рассказал об этом так: увидев, что группы мусульман и христиан сидят рядышком, спасаясь от полуденного зноя в тени городских ворот, «сели и мы. Сидя там, я спросил, обладает ли кто знанием обоих языков, в которых мы нуждаемся. Поскольку такой человек нашелся, я велел обратиться к туркам со следующими словами…»[945]. Дальше Палама начал религиозную дискуссию, причем «послушать собрались и христиане, и турки в большом количестве». В ходе полемики мусульманин ссылался на победы исламского оружия как на доказательство истинности учения Мухаммеда (аргумент, которым любили пользоваться сами византийцы, пока военное счастье было на их стороне!). На это Палама возражал, что военные победы ничего не доказывают, «а учение Христа… охватило все пределы вселенной и присутствует даже среди тех, кто с ней воюет»[946]. То, что говорит основатель исихазма дальше, характеризует его как тонкого дипломата: «В этот момент присутствовавшие там христиане, видя, что турки закипают гневом, стали делать мне знаки, чтобы я сдержал свою речь. Я, обращая все в шутку (πρός ίλαρότητα μεθέλκων), улыбнулся и вновь обратился к ним: «Если бы мы согласились в словах, то и учение у нас оказалось бы единым». Один из них ответил: «Настанет такое время, когда мы согласимся (συμφωνήσομεν) друг с другом». И я согласился (συνεθέμην) и помолился о том, чтобы скорее настало это время. Однако зачем я говорил это людям, которые теперь живут в религии, более чуждой, чем когда‑нибудь? А согласился я потому, что помнил слова апостола, что пред именем Иисуса Христа всякое колено склонится и всякий язык его будет проповедовать… Но случится все это во Втором Пришествии»[947]. Итак, на краю гибели византийское христианство вновь прибегло к спасительному аргументу о том, что призвание языцев — не дело рук человеческих. Только если раньше этим аргументом прикрывался имперский снобизм, то теперь — слабость Империи. И все равно по сравнению с предыдущими эпохами открытость Паламы контактам с варварами поражает. Быть может, из‑за этой склонности Филофей Коккин сравнивает его с апостолами, правда, об обращении им кого бы то ни было в христианство ничего не говорит[948].