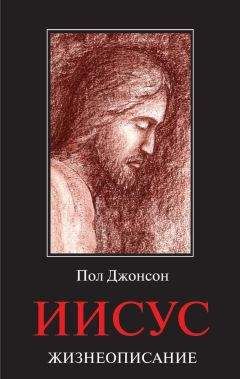Карен Свасьян - …Но еще ночь
4.
Случались и исключения, когда действительно догоняли и даже перегоняли. Можно было бы назвать Шпета (его конкурсное сочинение о Юме и Канте или поздний маленький шедевр «Сознание и его собственник»), ильинский двухтомник о Гегеле, фейерверк лосевского самиздата. Но решающим оставалось, конечно, самое первое из исключений, особенность которого заключалась в том, что оно началось до правил и оттого стало само правилом: исключением, как правилом . Исключительность русской философии приходится в этом смысле понимать буквально: она не только началась с исключения, но и, равняясь на него, каждый раз и в каждом отдельном случае хотела быть таковым (чем-то вроде Breakfast of Champions), что, как нетрудно догадаться, сообщало ей некоторую ненормальность, справиться с которой она могла бы только при одном условии, именно, если бы ей удалось не только хотеть быть, но и быть таковой: сплошной, транзитной, как бы коллективной (ну да, соборной ) исключительностью, скажем так: неким философским коллективом, без исключений состоящим из исключений. Понятно, чтo оправданием этой ненормальности могла бы быть только гениальность , или, если угодно, как раз сама ненормальность, только вполне осознанная, даже поволенная, а главное, удавшаяся, где философу-новичку удавалось бы всё время начинать философствовать с конца и всё время оставаться в конце, как если бы с конца и в конце философии всегда и начиналась философия. Таким первым концом-началом русской философии был Владимир Соловьев . Конечно, можно говорить о русской философии и до Соловьева, при желании даже находить её в самых неожиданных местах.
Для этого надо просто не понимать, о чем говоришь. Это всё тот же Домострой или Стоглав, переориентированные с быта на бытие . Словами самого Соловьева: «Один из первых (по времени) схоластиков — Rabanus (или Hrabanus) Maurus, в сочинении своем „De nihilo et tenebris“ („О ничем и о мраке“), между прочим, замечает, что „небытие есть нечто столь скудное, пустое и безобразное, что нельзя достаточно пролить слез над таким прискорбным состоянием“. Эти слова чувствительного монаха невольно вспоминаются, когда подумаешь о русской философии. Не то чтобы она прямо, открыто относилась к категории „небытия“, оплаканного Рабаном Мавром: за последние два десятилетия довольно появлялось в России более или менее серьезных и интересных сочинений по разным предметам философии.
Но всё философское в этих трудах вовсе не русское, а что в них есть русского, то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже. Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем: всё, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустою претензией»[212]. Фокус Соловьева даже не в том, что с него началась философия, а в том, что она началась сверху вниз и сразу вся: как гром с неба, гениальная и до неправдоподобного зрелая; шедевр под названием «Кризис западной философии», дебют двадцатилетнего, ошеломил бы и философски многоопытный Запад точечно-точным анамнезом и эпикризом его затяжной умственной болезни. Аналогия с Шеллингом, еще одним философским ingenium praecox, защитившем в возрасте 17 лет магистерскую диссертацию (на изящной латыни) о происхождении зла, пришлась бы весьма кстати. Но если, говоря о русском Шеллинге , делать ударение не на Шеллинге, а на русском, то мы получим типичный парадокс философа, который больше, чем философ: сначала «больше, чем» , а потом и просто «больше» . Он так и не стал философом в собственном смысле слова, потому что не хотел этого, а не хотел, потому что знал, что на его вопросы и потребности у философа нет и не может быть ответов. Философы любят мудрость, а не влюбляются в нее. Любя её, они сидят в библиотеках и сами определяют, кто она и какой ей быть; влюбившись же, теряют голову и срываются с места по первому её мановению.
Быть больше, чем философ, и значило, наверное, в случае Соловьева потерять голову от философии: не той, которая замурована в университетах, а той, которая — «милый друг» , дантовская La Donna Filosofia, гностическая София Ахамот. То, что молодой доцент Соловьев был потерян для философии в самом начале своей сногсшибательной философской карьеры, стало ясно с момента его экстравагантного отбытия в Египет из Лондона: молодого специалиста посылают изучать гностические тексты в Британском музее, а он вдруг решает, что лучше текстов может быть оригинал, тем более, что последний сам является ему в читальном зале и назначает свидание в египетской пустыне, куда он и срывается, очертя голову, буквально: из читального зала в пустыню, где его чуть не убивают бедуины, приняв его за чёрта. Соловьев — эрратический валун. Приходится гадать, из каких Каппадокий он попал в Россию, откуда потом регулярно спасался бегством в никуда. Не секрет, что, читая его тексты, то и дело натыкаешься на чужое: здесь Гегель, там Шеллинг, Баадер, Бёме и дальше до Каббалы и гностика Валентина. Но что здесь поражает оригинальностью, так это неповторимое качество сплава!
Его «Философские начала цельного знания», потенцирующие философию до свободной теософии , где эмпирический опыт расширяется до мистического, а понимание не выходит за рамки рациональности, мало кому доступны и сегодня, равно как и его небывалое, уникальное понимание Христа. Он просто облачился в философа, чтобы легче было не быть им. Вот отрывок из воспоминаний Андрея Белого[213]: «Помню большие коричневые свечи, которые привез он своему брату, М. С. Соловьеву, из Египта. Соловьев всюду как бы ходил с большой коричневой египетской свечой, невидимой для его маститых и уравновешенных друзей, но, быть может, видимой некоторым из его друзей, относительно которых ходили слухи, что друзья эти — „темные личности“. Вот эти-то темные личности впервые и возвестили о том, что Соловьев — вовсе не философ, а странник, ходящий перед Богом». Это впечатление засвидетельствовано не только Белым, но и множеством современников: личное Соловьева было куда интереснее, а главное, значительнее его философии. Можно вспомнить случай-мистерию с Анной Шмидт, чтобы понять, о чем идет речь. Безумная нижегородская журналистка-теософка, ощутив себя Душой Мира, ищет соединиться с Логосом-Христом, опознав его в Соловьеве. Хотя последний и ужаснулся такому заносу своих флиртов с «подругой вечной» (он умер вскоре после этого), сам факт случившегося дает представление о том, до каких потенций могло в нем расширяться его «больше» .
Сюда же относится и упомянутое уже выше понимание Христа, в котором центральным он считал не учение, мудрость, догму, религию, а личность , то есть, он понимал христианство не как вопрос, на который ищут ответа, а как раз наоборот: как ответ, на который ищут вопроса. Вопрос, с которого не может начаться христианство, есть вопрос Пилата: «Что есть истина?» Начало христианства в ответе Христа, предопределяющем самый поиск вопроса не в «что» , а в «кто» : «Я есмь истина» . Если представить себе Соловьева перенесенным из религиозной (к тому же подчеркнуто ортодоксальной в обоих — православном и католическом — смыслах) топики в топику, скажем, фихтевско-гегелевскую, но обязательно в её штирнеровском приведении к нелепости , то что бы помешало нам увидеть и в нем одного из претендентов на вакансию «единственного и его достояния» ! Этот как бы срисованный с «Единственного» Штирнера портрет Соловьева особенно впечатляет в розановском исполнении[214]: «Соловьев был весь блестящий, холодный, стальной. Может быть, было в нем „Божественное“, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее: но ничего или очень мало было в нем человеческого. „Сына человеческого“ (по-житейскому) в нем даже не начиналось, — казалось, сюда относится вечное оплакивание им себя, что я в нем непрерывно чувствовал во время личного знакомства. Соловьев был странный, многоодаренный и страшный человек. Несомненно, что он себя считал и чувствовал выше всех окружающих людей, выше России и Церкви, всех тех странников и мудрецов „Пансофов“, которых выводил в „Антихристе“ и которыми стучал как костяшками на шахматной доске своей литературы […] Он собственно не был „запамятовавший, где я живу“ философ, а был человек, которому не о чем было поговорить, который „говорил только с Богом“. Тут он невольно пошатнулся, т. е. натура пошатнула его в сторону „самосознания в себе пророка“, которое не было ни деланным, ни притворным».
Беда в том, что «Единственный» Штирнера в русской оптике oборачивается однозначно «Антихристом», а «Антихрист» в той же оптике — однозначно чертой, о которую обламывается мысль: чертой (чёртом!), после которой уже не думают, а осеняют себя крестным знамением. Тут и пошатнулась натура автора «Трех разговоров», который, считая и чувствуя себя выше России и Церкви, не смог осилить невыносимость этого чувства в мысли. Философию в традиционном смысле он перерос, а до собственной свободной теософии , как свободной от всяких предпосылок мысли, не дорос. Он так и остался кентавром, хироном, сфинксом, ухитрившимся в своей Privatmetaphysik безостаточно вжиться в проблематику Штирнера, но застрявшим в своих семинарских занятиях среди позднеантичных отцов, гностиков и колдунов. Наверное, он оттого столь зло и высмеял Ницше, что увидел в нем разоблаченного себя, собственное свое сумасшествие, которое, за неумением преодолеть его мыслью и сознанием, он отсрочивал взрывами смеха, вином, внезапными появлениями и исчезновениями и прочими экстравагантностями.