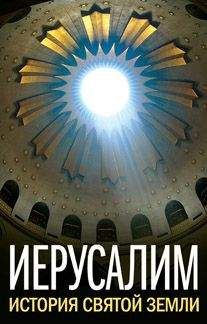Августин Блаженный - Сочинения
КНИГА 10
(В ней показывается, что в уме человека есть более явная троица памяти, понимания и воли. Здесь также выясняется и то, что, хотя ум никогда бы не мог быть таким образом, чтоб он не помнил, не понимал и не любил себя, он не всегда думает о самом себе, и когда он не думает о себе, он не отличает себя одной и той же мыслью от телесного; отчего рассуждение о Троице, образом Каковой он является, откладывается затем, чтобы в самом видимом телесном обнаружилась троица, и чтобы в нем более надлежащим образом поупражнялось внимание читателя)
1. Теперь приступим с большим тщанием к более четкому объяснению того же самого. Во–первых, поскольку никто не может любить то, что совсем неизвестно, мы должны с большим вниманием рассмотреть то, какого рода любовь стремящихся (studentium), т. е. еще не знающих, но желающих знать какое–либо учение. В том, по отношению к чему слово «стремление» (studium) обычно не употребляется, любовь часто возникает от услышанного, когда слава о красоте чего–либо побуждает душу к созерцанию и наслаждению им, потому что душа знает род того, в чем заключается красота тел, поскольку она видела многих; и потому что внутри нее есть то, что оценивает желаемое извне. Когда это происходит, то возникающая любовь не есть любовь к той вещи, что совершенно неизвестна, ибо известен ее род. Когда же мы любим благого человека, внешность которого мы не видели, мы любим его потому, что наслышаны о его добродетелях, о каковых [вообще] мы знаем из самой истины. Что же касается учений, то нашу любовь к ним возжигает главным образом [внешний] авторитет восхваляющих и проповедующих их. Однако, если бы в нашем сознании не было хотя бы скудного представления о каждом учении, мы бы никогда не воспылали стремлением к изучению [какого–либо] учения. Ибо кто бы стал беспокоится и прилагать усилия к изучению, например, риторики, если бы не знал, что это — наука красноречия? Иногда же мы удивляемся достижениям изучения, о которых мы услышали или прознали, и поэтому мы жаждем приобрести, обучаясь, способность приходить к таким достижениям. Так, если кто–то сказал бы тому, кто не умеет писать, что существует знание, посредством которого всякий способен, молча, отправлять тому, кто находится сколь угодно далеко, начертанные рукой слова, каковые тот, кому они направлены, в свою очередь сочетает, но не слухом, а глазами, и если бы он увидел, как это делается, то разве в его желании обладать таким знанием не все его стремление будет направлено на то достижение, которое другой уже удерживает? Так возжигаются стремления учащихся; любить же то, что совершенно неизвестно, не может никто.
2. Поэтому также если кто–либо слышит неизвестный знак, например, звучание какого–то слова, значение которого ему не известно, он желает знать, что это, т. е. что по установлению должно мыслится посредством данного звучания. Так, например, когда слышат слово temetum (лат. — пьянящий напиток), то, не зная, спрашивают, что оно означает. Таким образом, необходимо, чтоб уже знали, что это–знак, что это — не пустое звучание, но что оно что–то обозначает. Впрочем, это трехсложие [также] и известно, ибо посредством слухового ощущения оно запечатлело в сознании свой членораздельный образ. Но что же большее требуется от этого слова для того, чтобы стало более известным то, все буквы и все звуки чего уже известны, как не то, чтобы оно в то же самое время стало известным и как знак, и чтобы оно пробудило желание знать, знаком чего оно является? Следовательно, чем больше что–либо известно (хотя не полностью), тем больше душа желает знать об этом то, чего пока не знает. Ибо если бы было известно, что данное слово является только звучанием, и не было бы известно, что оно является знаком чего–то, то не стали бы искать ничего [большего], поскольку чувственное уже воспринято, насколько возможно. Однако, поскольку известно, что это — не только звучание, но также и знак, постольку возникает желание знать это совершенным образом; но ни один знак не познается совершенно, если он не познается как знак чего–то. Так, неужели того, кто с рвением пытается познать и вдохновленный стремлением приступает [к делу], возможно считать пребывающим без любви? Но что же он любит, ведь любить возможно только то, что известно? Ибо, конечно же, не могут быть любимы те три слога, которые уже известны. Но, может, в них любят то, что знают, что они обозначают что–то? Однако сейчас разговор не об этом, так как стремятся узнать не это. Мы же спрашиваем о том, что любят в том, что стремятся знать, но чего, конечно же, еще не знают, и поэтому мы недоумеваем, почему [это] любят, ведь мы, несомненно, знаем, что нельзя любить то, чего не знают. Так, почему же любят, как не потому, что знают и созерцают в соотношениях вещей красоту науки, в которой содержится знание всех знаков? И в чем же польза от такого знания, как не в том, что посредством него люди сообщаются между собой, дабы собрания людей не были хуже одиночества, в том случае если бы они, разговаривая, не сообщали друг другу свои мысли? Следовательно, душа различает, знает и любит тот подобающий и пригожий образ; и всякий, кто ищет значения слов, которых не знает, стремится совершить в себе этот образ, насколько может. Ведь одно дело — созерцать его в свете истины, и другое — желать его. Ибо всякий созерцает в свете истины, насколько велико и благо то, что мыслится и говорится на всех языках всех народов, и что никем ни слышится, ни произносится как иностранное. Следовательно, красота этого знания уже распознается мыслью, а то, что известно, любимо. И таким образом это созерцается и воспламеняет стремление учащихся, так что они подвизаются в этом отношении и вожделеют во всяком усилии, которое они прилагают для достижения этого, для того, чтоб и на практике они овладели тем, что предузнали в созерцании ума. И чем более всякий приближается к этому надеждою, тем более воспламеняется любовью. Ибо те науки изучаются с большим рвением, в возможности постичь каковые не отчаиваются. Ведь если у кого–то нет надежды в достижении чего–то', то он любит это без особого рвения или вовсе не любит, каким бы прекрасным он его не считал. Вот почему, поскольку на знание всех языков почти никто не надеется, всякий стремится к тому, чтобы в совершенстве знать свой. Если же кто–то считает, что он и этого не может знать в совершенстве, то все же никто не будет столь ленив в отношении этого знания, чтобы [даже] не желать знать, что означает незнакомое слово, когда он его слышит, и пытаться по возможности выучить его. Пока же он пытается, он пребывает в стремлении учащегося и, как представляется, любит то, что ему не известно. Но дело обстоит иначе. Ибо его душу затрагивает тот образ, который он знает и мыслит, и в котором посредством языкового общения проявляется красота (decus) соединения душ, каковая воспламеняет стремлением ищущего то, чего он не знает. Однако он созерцает и любит знакомый образ, к которому относится искомое. Таким образом, если бы кто хотел знать, что такое, например, temetum (что, примера ради, я уже приводил), а его бы, [в свою очередь], спросили: «Зачем это тебе?», он мог бы ответить: «Затем, чтобы не случилось так, что я слушал кого–то и не понял, или чтобы не случилось так, что я прочел где–нибудь что–то и не знал, что писавший имел в виду». Кто же тогда ему скажет: «Не стремись понять, что ты слышишь, и не стремись знать, что читаешь»? Ибо почти для всякой разумной души очевидна красота (pulchritudo) этого знания, с помощью которого человеческие мысли сообщаются меж собой посредством выражения в значащих словах. И на основе этой известной, а потому и любимой, красоты (decus) со стольким стремлением возникает желание узнать это незнакомое слово. Таким образом, когда он прочтет и узнает, что словом temetum древние называли вино (uinum), но что теперь это слово уже вышло из употребления, он, возможно, [все же] сочтет для себя необходимым [знать это слово], чтобы понимать книги древних. Если же он сочтет эти книги чем–то излишним, он , возможно, сочтет и это слово не достойным запоминания, потому что он видит, что оно не имеет какого–либо отношения к тому известному виду (speciem) знания, который он созерцает и любит умом.
3. Вот почему всегда любовь стремящейся души, т. е. желающей знать то, что не знает, не есть любовь к тому, чего не знает, но к тому, что знает, на основе чего желают знать то, чего не знают. Если же душа настолько любопытна, что увлекается не по какой–то известной причине, но из–за одной любви к познанию неизвестного, то такого любопытствующего следует отличать от [собственно] стремящегося [к изучению]. О любопытном нельзя сказать, что он любит неизвестное, но, напротив, справедливым будет заметить, что он «ненавидит» неизвестное; и ему б не хотелось, чтоб было неизвестное, поскольку ему хочется, чтоб ему было известно все. Но чтобы никто не поставил перед нами более трудный вопрос, замечая, что никому не возможно ненавидеть то, что не известно, в той же степени, как и любить то, что неизвестно, давайте не будем противиться истинному. Ведь следует понимать, что говорить: «Он любит познавать неизвестное»; не есть то же, что говорить: «Он любит неизвестное». Ибо вполне возможно, чтобы человек любил познавать неизвестное, но невозможно, чтобы кто–либо любил неизвестное. Ведь не напрасно здесь говорится «познавать», поскольку тот, кто любит познавать неизвестное, любит не само по себе неизвестное, но познавать его. И никто, не зная, что означает познавать, не мог бы с уверенностью сказать, знает ли он что–либо или не знает. Ибо не только тот, кто говорит: «Я знаю», и говорит истинное, с необходимостью знает, что такое познавать. Ведь даже и тот, кто говорит: «Я не знаю», и говорит это уверенно, и знает, что говорит он истинное, конечно же, знает, что такое познавать, ибо и он отличает знание от незнания, когда он, вглядываясь в себя, правдиво замечает: «Я не знаю». И поскольку он знает, что говорит истинное, постольку откуда бы он знал это, если бы не знал, что такое познавать?