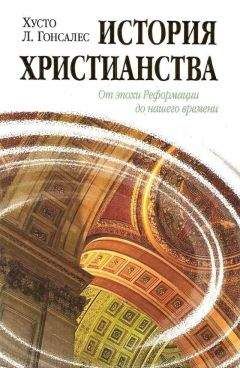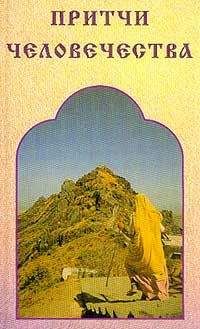Ярослав Пеликан - Христианская традиция: История развития вероучения. Том 1
Предпосылки христологического учения
По крайней мере в одном отношении между учением о Троице и учением о личности Христа существовало близкое сходство. Каждое учение объединяло многие мотивы, характерные для процесса его развития. С формальной стороны, эти мотивы можно назвать общим достоянием всех христиан, придерживавшихся ортодоксии; однако различные выводы, сделанные из общих посылок, указывают на то, что даже в этих общих убеждениях акценты ставились по-разному. Общие посылки получали различные толкования, и не было единого понимания того, как эти посылки соотносятся друг с другом.
В Никейском символе за утверждением о «божественности» (Бог в Себе) следовало утверждение о «домостроительстве» (Бог в Своем плане спасения), выраженное в исповедании того, что «ради нас человеков и нашего ради спасения» Христос сошел, воплотился, пострадал и воскрес из мертвых в третий день, вознесся на небеса и придет снова судить живых и мертвых. Это вероисповедание, в той или иной версии, можно обнаружить во многих древних символах веры. Однако каждый из его компонентов требовал тщательного рассмотрения с точки зрения его христологических следствий; и каждый являлся также результатом предшествовавшего развития. Соединение этого сжатого изложения земных деяний Иисуса Христа с утверждением о Его божественности порождало вопрос о соотношения Его божественной природы и событий Его жизни и смерти. Более того, если Он пришел «ради нас человеков и нашего ради спасения», необходимо было указать, какова связь между Его личностью и Его спасительным деянием. И утверждая, что Он достоин поклонения, Церковь помещала свое учение и исповедание о Нем в контекст своей литургии, где как раз и почитали Воплощенного в Его сакраментальном присутствии и силе.
Как Сын и Логос Божий Христос - откровение природы Бога; согласно формуле Иринея, «Отец есть невидимое Сына, а Сын есть видимое Отца». Если по выражению, которое цитировал Ириней из еще более раннего источника, «Сын есть мера Отца», следовало ожидать, что христианское определение божественности Бога окажется связанным с содержанием божественного, как оно открылось во Христе. Однако на самом деле ранний христианский образ Бога подчинялся всеми принятой самоочевидной аксиоме об абсолютности и бесстрастии божественной природы. Нигде в христианском вероучении эта аксиома не была столь влиятельной, как в христологии, в результате чего содержание божественного, как оно явлено во Христе, само оказалось подчиненным аксиоматическому определению божественности Бога. Никто не хотел, чтобы его поняли так, будто, излагая свое мнение о Христе, он так или иначе подвергает риску это определение. Для Феодора Мопсуестийского божественная трансцендентность означала, что «невозможно ограничить или определить пропасть между Тем, Кто от вечности, и тем, кто начал существовать во времени, когда его не было. Какое сходство и какая связь может быть между двумя существами, столь сильно отделенными друг от друга?» На другом конце христологического спектра Аполлинарий также настаивал, что факт «страданий, присущих плоти», никоим образом не влияет на бесстрастность божественной природы; поэтому он нападал на всякого, кто приписывал божественности Христа такие «человеческие вещи», как «возрастание и страдание».
В своем учении о Боге александрийцы особо подчеркивали понятие бесстрастности, без всяких оговорок. Это подтверждается, если обратиться к текстам Кирилла Александрийского. Имея в виду места в Псалмах (94:22 и 90:1 ), где говорится, что Бог «стал» прибежищем человека, Кирилл задает риторический вопрос: означает ли это, что Бог перестал быть Богом и стал чем-то, чем не был вначале? Конечно, нет, ибо, «будучи неизменным по природе, Он всегда остается тем, чем был и чем всегда является, даже если о Нем говорится, что Он "стал" прибежищем». По существу, уже само упоминание слова «Бог» делает употребление слова «стал» применительно к Богу «глупым и вообще вредным», если предполагается, что это может указывать на какое-либо изменение в неизменном Боге. В других местах Кирилл усиливает этот метафизический контраст между природой Бога Творца и природой тварей. Природа Бога прочно утверждена, так что всегда сохраняется ее неизменное постоянство; тварное же бытие отдано во власть времени и потому подвержено изменению. Всему, что имеет начало, присуща изменчивость. «Но Бог, бытие Которого превосходит всякое разумение, Который возвышается над любым началом и над всем, что проходит, превыше изменения». Цитируя Баруха 3:3 : «Ты - вечно пребывающий, а мы - вечно погибающие», - Кирилл заключает, что божественное не может измениться под влиянием времени или быть поколеблено страданиями, тогда как тварная природа не способна обладать сущностной неизменностью.
Однако, как показывает это последнее утверждение, целью абстрактных рассуждений Кирилла на тему абсолютности и неизменности Бога являлось проникновение в тайну божественного Логоса. Не следует говорить о Его «преобразовании в плотскую природу» так, чтобы умалялась Его божественная неизменность. «Он был Логосом и в начале, и происходя от вечного и неизменного Бога и Отца, Он в Своей собственной природе также обладал вечностью и неизменностью». Это свойство быть «извечным и неизменным» не могло утратиться даже в Воплощении. Хотя о Нем говорится, что Он пострадал во плоти, Ему продолжала быть присуща бесстрастность - постольку, поскольку Он был Богом. Он был не подвержен страданию, но воспринял плоть, которая могла страдать, так что можно сказать, что страдание Его плоти было Его собственным страданием. Но когда возникал вопрос: «В каком смысле Сам [бесстрастный Логос] не страдает?» - Кирилл отвечал, что речь идет о «страдании в Его собственной плоти, а не в природе Его божества», -о страдании, которое превосходит всякое разумение и любые слова. Даже тот акцент, который александрийцы делали на реальности Его страданий и на единстве божественного и человеческого в Его личности, не позволял как-либо оговаривать или ставить под сомнение сущностную бесстрастность природы Бога.
Антиохийцы были не менее тверды в этом вопросе; справедливо сказано, что «антиохийцы больше всего внимания уделяли именно вопросу о божественном бесстрастии». Возможно, это признавал и сам Кирилл, когда приписывал им опасение, что если Логосу, рожденному свыше и все превосходящему, приписывать человеческие качества и переживания, то это будет нечестием; и потому они стремились предотвратить всякое сомнение в божественной и бесстрастной природе Самого Логоса. Феодор представлял Логос говорящим: «Невозможно, чтобы Я Сам подвергся разрушению, ибо Моя природа нерушима, но Я позволю этому [телу] быть разрушенным, потому что это присуще его природе». Согласно Несторию, возможно назвать бесстрастного Христа страстным, потому что Он «бесстрастен по Своему божеству, но подвержен страданию по природе Своего тела». Он понимал термин «единосущный» из Никейского символа так, что свойства божественной природы являются свойствами Логоса - быть по природе бесстрастным, бессмертным и вечным. Критики, как он говорил, обвиняли его в нечестии, «потому что я сказал, что Бог нетленен, и бессмертен, податель жизни всему», - имея в виду под «Богом» божественный Логос. В то же время Несторий считал, что слияние (или смешение) божественного и человеческого в александрийской христологии не только ставит под сомнение бесстрастность Логоса, но и лишает смысла страдательность человека Иисуса. В таком случае евангельский рассказ об ангеле, который укреплял Иисуса в саду, становится не более чем притчей, «ибо Тот, Кто страдает бесстрастно, не имеет нужды в том, чтобы кто-либо Его укреплял». Таким образом, из, казалось бы, общей посылки об абсолютности Бога произошли совершенно разные теории о личности Иисуса Христа.
Вместе с тем бесстрастность усваивалась не только Богу. Речь шла также и о «надежде на грядущую жизнь, [в которой] мы будем пребывать бессмертными, и бесстрастными, и свободными от всякого греха». Бесстрастность можно было представлять и как дар спасения. Бог сделал Иисуса Христа «бессмертным, нетленным и неизменным» лишь после Его воскресения, «потому что Он не был единственным, которого Он хотел сделать бессмертным и неизменным, но и нас тоже, связанных с Его природой». Именно в воскресении Христа и Он Сам, и те, кого Он пришел спасти, обрели «бессмертную и бесстрастную природу». Со своей стороны, Афанасий Александрийский описывал «благоустроенность» спасенного человека, в данном случае монаха Антония, у которого «поскольку душа была безмятежна, то и внешние чувства оставались невозмущаемыми». Он имел в виду, что Антоний «обладал в очень высокой степени христианской απάθεια - абсолютным самоконтролем, свободой от страстей, - что является идеалом каждого истинного монаха и подвижника, стремящегося к совершенству. Христос, свободный от всякой слабости и погрешности чувств -απαθής Χριστός, - это его образец». Антиохийская и александрийская традиции были согласны в том, что целью пришествия Христа являлось спасение и что бессмертие и бесстрастность - следствия этого спасения. Все также разделяли убеждение, что между учением о личности Христа и учением о деянии Христа должна существовать богословская согласованность; или, в негативном смысле, что не может быть принято христологическое учение, если оно выступает против служения Иисуса Христа как Спасителя. «Главным моментом нашего спасения является воплощение Логоса», говорил Аполлинарий. Воплощение должно было совершиться так, как оно совершилось, утверждал Несторий, иначе Сатана не был бы побежден. Кирилл в трактате «О воплощении Единородного», со своей стороны, рассматривал сотериологические последствия обсуждавшихся христологических теорий и опровергал каждую на том основании, что, если бы она была правильна, спасительное деяние Христа было бы невозможно; другие аргументы переходили из одной теории в другую, но этот аргумент применим к каждой. Даже для того чтобы быть лишь выразителем и откровением божественной природы (задача, для выполнения которой Ему, казалось бы, достаточно быть «сыном плотника»), Он должен был быть Тем, Кто снизошел с неба, и быть «Богом, Который явился нам, будучи Господом» Иисусом Христом. Это стало уже стандартным оружием в арсенале александрийских и каппадокийских защитников Никеи.