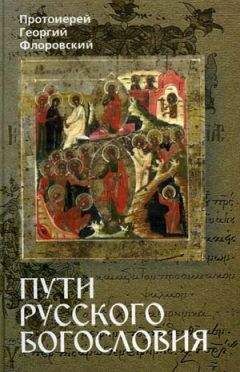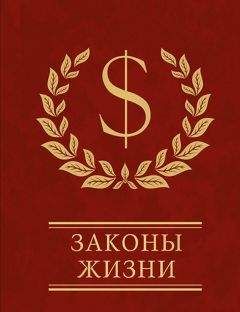Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть I
Под какими бы влияниями и впечатлениями ни сложилась «система» Филарета, по внутреннему своему строю она принадлежит к святоотеческому типу (срв. в особенности святого Григория Нисского)…
С особенным вниманием Филарет останавливался всегда на двух темах. Это, во-первых, таинство Креста, тайна Искупления. И, во-вторых, описание открывающейся для верующих во Христе благодатной жизни, жизни в Духе…
Христос для Филарета есть, прежде всего, таинственный Первосвященник, приносящий и приносимый, — Агнец Божий и Великий Архиерей (срв. послание к Евреям). В Евангелии он видит, прежде всего, Крест на Голгофе, в Богочеловеке — страждущего Спасителя. «Судьба мира висит на кресте Его, жизнь мира лежит во гробе Его. Сей крест озаряет светом плачевную страну жизни, из гроба Его взыдет солнце блаженного бессмертия…»
И тайна Креста есть таинство Божественной любви, — «тако в духовной области тайн, по всем измерениям Креста Христова, созерцание теряется в беспредельности любви Божией». В Великий Пяток Филарет проповедует на слова: «Тако возлюби Бог мир». Призывает вникнуть в последний смысл Креста. «Что там!.. Ничего, кроме святой и блаженной любви Отца и Сына и Святого Духа к грешному и окаянному роду человеческому. Любовь Отца — распинающая. Любовь Сына — распинаемая. Любовь Духа — торжествующая силою крестною…»
Филарет вполне свободен от сентиментального или моралистического перетолкования Крестной любви. Он подчеркивает, напротив, что Крест Христов укоренен в неисследимости Божественного благоволения. Таинство Крестное начинается в вечности, «в недоступном для твари святилище триипостасного Божества». Потому и говорится в Писании о Христе, как об Агнце Божием, предуведенном или даже заколенном от сложения мира. «Смерть Иисуса есть средоточие сотворенного бытия…»
«Крест Иисусов, сложенный из вражды иудеев и буйства язычников, есть уже земной образ и тень сего небесного Креста любви…»
В своих проповедях, особенно во дни страстных воспоминаний, Филарет подымается до подлинных высот молитвенного лиризма, в его словах слышится трепет сердца. Этих слов нельзя пересказывать, их можно только перечитывать и повторять…
У Филарета мы не найдем связной системы, он говорит всегда скорее «по поводу». Но у него мы найдем нечто большее — единство живого опыта, глубину умного созерцания, «тайные посещения Духа». И в этом разгадка или объяснение его богословского влияния. Прямых учеников у Филарета почти не было. Он не создал школы но он создал нечто большее, — духовное движение…
Филарет был всегда внутренне очень сдержан в своих богословских рассуждениях, и к такой же ответственной сдержанности призывал других. В нем поражает, прежде всего, это неусыпающее чувство ответственности, — именно эта черта делала его облик таким строгим. В этом чувстве ответственности скрещивались мотивы пастырские и богословские. О Филарете верно было замечено, что «был он епископом с утра до вечера и от вечера до утра», — и в этом источник его осторожности. Но у него была и другая черта, некая инстинктивная потребность оправдывать свое каждое заключение. Именно отсюда объясняются все его оговорки о преданиях. «Каждая богословская мысль должна быть принимаема только в свойственной ей мере силы». И Филарет всегда противился тому, чтобы частные мнения превращать в обязательства, которые более стесняют постигающую или испытующую мысль, нежели ее ведут. Именно поэтому бывал он так нетерпим и так неприятен в качестве цензора или редактора. Характерен отзыв Филарета о «Страстной Седьмице» Иннокентия, — «я желал бы, чтобы спокойный рассудок прошел по работе живого и сильного воображения, и очистил дело». Филарет не отвергал «воображения», но подвергал его строгой поверке, — и не столько разумом, сколько свидетельством Откровения. «В предметах, которые не в круге опытов настоящей земной жизни, не надежно полагаться на собственный философствующий разум, а надобно следовать Божественному откровению и объяснениям оного, данным людьми, которые более нас молились, подвизались, очищали свою внутреннюю и внешнюю жизнь, в которых потому более прояснялся образ Божий, и открылось чистое созерцание, которых дух и на земли ближе нашего граничил с раем». Как видно, Филарета не так занимает вопрос об авторитете, сколько о внутренней достоверности…
Именно в силу своей требовательности и осторожности Филарет одним казался слишком уступчивым, другим чрезмерно придирчивым. Одни обвиняли Филарета за «якобинство в богословии», потому что он всегда требовал «доказательств», и слишком осторожно различал «мнения» и «определения». «Народ не любил его и называл масоном» (Герцен). Другие считали его мрачным охранителем и, странным образом, предпочитали ему даже графа Пратасова (срв. не только у Никанора Бровковича, [54] но и у Ростиславова)…
Одних смущало, что Филарет не соглашался объявить латинство ересью, а не только расколом, оговаривая, что это есть только «мнение, а не определение церковное», — и в особенности предостерегал от преувеличений: «поставление Папства на одну доску с Арианством жестоко и не полезно». И казалось, не слишком ли он осторожен, разъясняя, что Восточная Церковь «не имеет самовластного истолкователя своего учения, который давал бы своим истолкованиям важность догматов веры», — казалось, он слишком многое предоставляет «собственному рассуждению и совести» верующих, хотя и «при помощи церковных учителей и под руководством Слова Божия…»
Другие не находили слов, чтобы очернить его насильнический и тиранический образ. В этом отношении особенно характерны недобрые автобиографические «записки» историка С. М. Соловьева. В изображении Соловьева, Филарет был каким-то злым гением, убивавшим во всех своих подчиненных начатки творчества и самодеятельность И, в частности, Соловьев настаивает, Филарет убил творческий дух в Московской Академии. Об этом придется говорить позже. Здесь достаточно отметить, что наветам Соловьева можно противопоставить не мало противо-свидетельств. Ограничусь одним, и его трудно заподозрить в пристрастии к Филарету. Имею в виду отзыв Г. З. Елисеева, известного радикала и редактора «Отечественных Записок», бывшего в Московской академии студентом в самом начале сороковых годов, а потом бакалавром и профессором в Казани (кстати, кажется, его имел в виду Достоевский, когда творчески создавал образ Ракитина). По отзыву Елисеева, в Московской академии было скорее слишком много свободы, и исключительная обстановка сердечности, мягкости, товарищества…
Соловьев был близорук и очень страстен в своих суждениях. Он не умел и не любил находить светлые черты в тех, с кем не был согласен. Его особенно раздражали люди «бессонной мысли», оскорблявшие собой уют его право-гегелианского мировоззрения. Не одного только Филарета Соловьев так строго осудил. Только черные и гнилые слова у него нашлись и для Хомякова. К Филарету Соловьев был несправедлив даже как историк. Он не сумел и не захотел понять, что видимая суровость Филарета происходит от скорби и тревоги. «У этого человека горячая голова и холодное сердце», — в этом отзыве обманная полуправда. То правда, что ум Филарета был пылким и горячим, и эта бессонная дума положила резкую печать на его сухом лице. Но то напраслина и прямая неправда, что холодно было у Филарета сердце. Чуткое и впечатлительное, горело и оно. И горело оно в жуткой тревоге. Эту скорбь и тревогу, эту потаенную боль только от близорукого наблюдателя смогут заслонить видимые удачи и оказательства чести. Напряженным и мужественным молчанием Филарет едва покрывал и смирял свое беспокойство о происходившем в России. «Кажется, уже и мы живем в предместиях Вавилона, если не в нем самом», сказал он однажды…
Филарету приходилось, как выразился однажды Хомяков, управлять «окольными путями», чтобы не подавать лишнего повода к нападению. «Снисходительность приходилось отодвинуть подальше, а требовательность развивать возможно больше», свидельствует и другой современник, — «чтобы не подстерегли и не нанесли нечаянного удара». Сам Филарет писал однажды Григорию: «жаль, если те, на которых ищут случая напасть, подают случай к нападению…»
Филарет не любил легких и благополучных путей, ибо не верил, что легкие пути могут вести к правде, — узкий путь вряд ли может оказаться легким…
«Боюсь на земле радости, которая думает, что ей нечего бояться…»
9. «Сердечное богословие» и «неологизм»
Филарет был самым властным и ярким представителем того нового «сердечного богословия», которое прежде всего и преподавалось в преобразованных духовных школах. И задача преподавания полагалась именно «в образовании внутреннего человека», в том, чтобы внушить живое и твердое личное убеждение в спасительных истинах веры. «Внутреннее образование юношей к деятельному христианству да будет единственной целью сих училищ» (указ 30 августа 1814-го года). Здесь уместно припомнить популярный в те годы афоризм Неандера: pectus est quod facit theologum, «сердце образует богослова…»