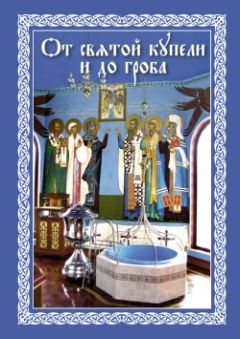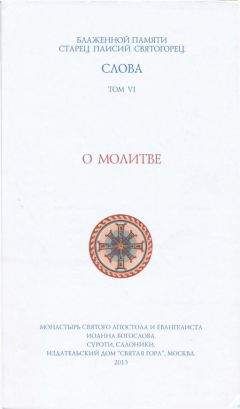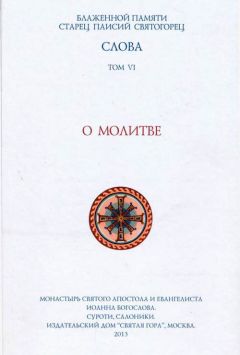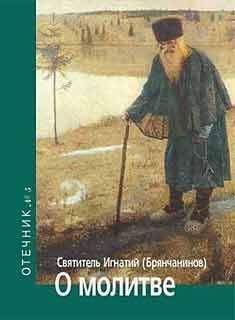Владимир Бибихин - Язык философии
Сравнительное определение Средневековья и Ренессанса не входит в наши задачи. Не хватало еще, чтобы потом еще мы попытались тут сказать, что такое Новое время и что такое современность. Все эти понятия относятся не столько к предметам, сколько к нашему взгляду на историю. Характерно, что современная историография переходит от Средневековья непосредственно к Новому времени, трактуя Ренессанс только как явление художественного стиля. Важнее классификации исторических периодов — вчитываться, всматриваться в памятники, чтобы сквозь схемы для нас проступили сами вещи. Тогда, как у путника, попавшего после прокладывания маршрута по карте в настоящие горы, самая малая их часть займет всё поле зрения и от непривычной близости крутых перепадов может закружиться голова. Как правило, мы редко имеем дело с вещами, предпочитая для удобства схемы массового изготовления.
Другая крайность — отказ видеть, что время меняет свое лицо. Не фиксируемый историографией Ренессанс явно существовал как время, когда изменился статус слова. Конечно, как средневековое слово говорилось к слову — дополнением, прибавкой к слову Откровения, Писания, авторитетного предания, — так и Ренессанс ориентируется на классические образцы. Но если средневековье присоединяется своей речью к уже прозвучавшей речи, то Данте повторяет не сказанное некогда хорошими авторами, а сам подвиг античной классики — дать слово миру в данный момент мира.
Поэт обычно знает, что он такое, лучше своих современников. Мы можем поэтому прислушаться к тому, как Данте понимает свое дело. Откуда у Данте, а потом у Петрарки знание, что их именем назовется век? Цель своей поэмы, Божественной комедии, Данте называет так: «Перевести человечество из убогого состояния в состояние счастья». В стихах и в прозе, по–итальянски и на латыни он повторяет правило Аристотеля: «блаженство здешней жизни» состоит в «деятельном обнаружении собственного достоинства» или «добродетели» (Монархия III 16, 7; Пир, Канцона III и др.). Счастливая полнота достигается высшим усилием. Возможность для человечества вытрясти из себя зло как пыль из ковра, исполнить свое назначение, оно же и замысел мира, — для Данте не теоретическая, а опытная истина, показанная примером многих древних и многих новых людей. Если такая возможность на деле дана, долг человека осуществить ее, так сказать, без рассуждений. Деятельное счастье здесь и теперь — призвание человека. Само существо человека того требует. Не нужна ничья санкция. Человек должен быть восстановлен. Сейчас же. Всё подлежит немедленной реформе, начиная с Церкви и власти, — перестройке, восстанавливающей правду человека. Не зря же человек на земле; не зря же человечество едино и не разделено на виды как животные; не зря один разум внятен всем.
Человечество предназначено для единения. Ход мировой истории нацелен на эту заветную цель; ради нее, пока еще слепо, рвались к мировому владычеству ассирийцы, египтяне, персы Кира и Ксеркса, греки Александра Македонского. Разрозненные и сбивчивые усилия сложились в одно, когда при Августе римской доблести, добродетели и государственной мудрости удалось скрепить и успокоить вселенную. Достаточно оказалось недолгого промежутка вселенского согласия, чтобы всё существование мира перешло в новое качество: Бог удостоил воплотиться в человеке и осенил землю Своим личным присутствием. Волшебное затишье мира тогда, в первые годы новой эры, было сорвано раздорами. Но теперь, в век Данте, наступил второй и, наверное, последний звездный час мира. Мир много жил, он вступает в возраст зрелости, во всяком случае — в такой возраст, когда «человеку надлежит раскрыться, словно розе, которая оставаться закрытой больше не может, и разлить порожденный внутри аромат» (Пир IV 27). Достаточно человек таился от самого себя, от другого человека, от истины, от Бога. Земля, как она была задумана уютным гнездом для человеческой природы, так снова станет садом, цветником, клумбой (Монархия III 16, 11) для успокоившегося человечества. Успокоившегося потому, что должно же оно наконец понять, что хлопоты с вещами не наполняют душу. Никакое овладение вещами не захватывает и не обогащает так, как узнавание себя в общении с другим.
Снова Данте цитирует Аристотеля: «Узнать самого себя — это и самое трудное […] и самое радостное […] Как при желании увидеть свое лицо мы смотримся в зеркало […] так […] мы можем познать себя, глядя на друга». Вот это — глядеть на друга — Данте понимает буквально. В его поэзии главные события совершаются во встрече взглядов, пересечении зрительных лучей. Самым наполняющим оказываются встречи лицом к лицу. От них — экстатическая радость; от них посреди обыденности открывается настоящий мир, который, однажды показав себя, способен наполнить человека до краев. «Жадность, пренебрегая самобытностью человека, тянется к прочим вещам; наоборот, любовь, пренебрегая всем прочим, тянется к Богу и человеку» (Монархия I 11, 14). Я неловко перевожу «самобытностью» perseitas, образованное из возвратного местоимения с предлогом: per se сам собой, сам по себе. Среди множества вещей, которые манят и обманывают — и в каждом человеке тоже можно видеть просто вещь, — другое зрение открывает человека самого по себе и с ним бесконечный мир, который таится среди вещественного, ограниченного. Этим делание в мире не отменяется. Но оно начинает служить распространению среди вещей того мира, который открылся другому зрению в лице Бога и человека. Мудрое хозяйствование сделает землю цветником. Человек отвечает за то, чтобы земля стала садом. Но это невозможно без захваченности человека счастьем того, что Данте называет старым словом «созерцание деяний Бога и природы» (Пир IV 22, 11).
Не надо спешить с подведением того, что говорит и как поступает Данте, под какую‑то категорию. Скорее наоборот, нужно вглядываться в Данте, чтобы понять через него, что такое человек. Поэты–философы не дедуцировали, умозаключая или читая Аристотеля, возможность для человеческого существа быть простым и целым, а знали ее на опыте. Эта счастливая простота, просветленная философским, поэтическим и христианским словом, была обеспечена, по выражению историка Жюля Мишле, «героическим порывом гигантской воли»[43]. Данте говорит о человечестве и совершает свой поступок перед лицом всего человечества с таким же размахом, с каким Кант выверял всякое действие нормой: лечь в основу всеобщего законодательства. Задача ставилась как предельная и непревосходимая. Еще слова Мишле: эта достигнутая простота позволила «впервые вполне узнать человека и человечество в его глубочайшей сути». Или, как сказал другой историк Ренессанса, «логическое понятие человека существовало издавна, но эти люди знали самую вещь»[44].
На одном из многих отечественных сборников или антологий о Ренессансе изображен полнотелый юноша с масляным лицом, заглядевшийся на цветущее дерево. Он, по–видимому, должен иллюстрировать человека, повернувшегося от средневекового аскетизма к радостям жизни. Оборотной и неизбежной стороной средневекового аскетизма однако была как раз масленица, и в латинской поэзии бродячих студентов голос почти надрывного благочестия чередуется с сочными восторгами любителя повеселиться, который словно никогда не слышал о том, что в мир пришло христианство. В средневековой двойственности (амбивалентности), как уже говорилось, не нужно видеть ничего особенно загадочного. Человеческое существо распределялось по функциям, духовным, социальным, природным, физиологическим. В сравнении со средневековой амбивалентностью философская поэзия Прекрасной дамы вдруг показывает такую человеческую собранность, что для нее перестает существовать проблема чувственного соблазна. Слишком силен огонь, которым загорается здесь человек. Слово становится простым и целым. В сравнении с ним средневековая речь кажется состоящей из условных знаков и аллегорий, когда даже неповторимый опыт втискивается в типическую схему. Рядом с весомой непосредственностью ренессансного слова средневековая речь похожа на протокол или на ритуальный текст.
Как Средние века темны не потому, что перестали являться светлые умы, так слово ренессансных философских поэтов так звонко не потому, что они внимательно вчитались в хороших авторов и усвоили стилистику мастеров. Они не манипуляторы слова, а вестники мира. Петрарку расстраивало и возмущало, что в красоте слова люди видят риторику. «Большая часть читающих, скользя мимо сути дела, ловит только слова, а правила жизни, обманутая слышимой гармонией, воспринимает словно какие‑то сказки. Ты помни: дело там идет не о языке, а о душе, то есть речи те [Цицерона] — не риторика, а философия» (Книга о делах повседневных III 6, 7). Философия понимается в смысле не абстракции, а «поступка гражданственной жизни».