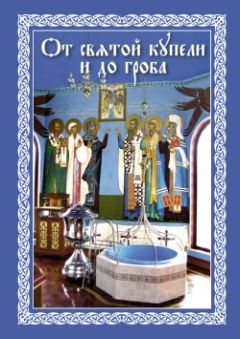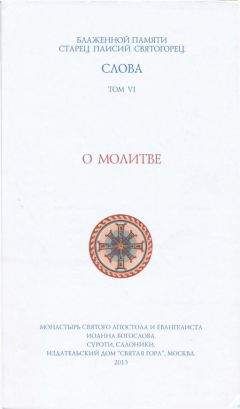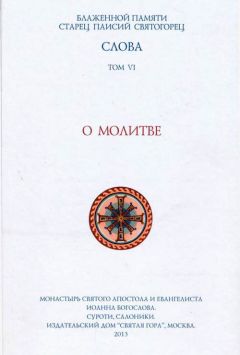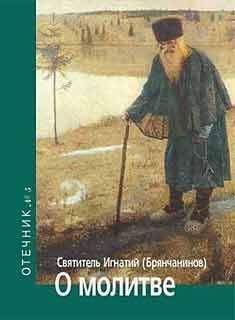Владимир Бибихин - Язык философии
Средневековье знает, что глухо молчать значит как раз не хранить молчание, подставив себя произвольным перетолкованиям, и что сохранить молчание можно только словом, но ради надежности хранения оно хочет хранить молчание единственным, уникальным, безусловным словом божественного авторитета. Средневековое слово несобственное. Человеческое существо тут молчит, запретив себе говорить, не высвечивает, не просвещает себя, запирает себя в келью, чтобы не вспугнуть дух. В молчаливой темноте оно начинает нуждаться в надежном водительстве. Чтобы продолжалось исступление потонувшего в священной тайне, ослепшего от божественного блеска, слепой должен держаться за руку зрячего. Заветное сохранит себя, если ты замкнувшись в молчании будешь вспоминать неложное слово.
В том, чтобы, имея глаза, ни во что не вглядываться самому и доверяться руководителю, было юродство. Средневековое изображение человека обычно останавливает нас уродством. Юродивый не хочет развиваться. Он застыл, словно исступив из себя. Его дух не ослаблен, наоборот, так силен, что покорил тело, приучил терпеть холод и голод, носить вериги. Дух однако оглушен, предстоит потрясающему сверхчеловеческому началу в ступоре, запечатал себя. Темнота, в которой потонул этот непросвещенный дух, не темнота невежества, или она темнота такого невежества, которое сродни безумной мудрости. Словами урод, юрод в старославянском и церковнославянском передано греческое μωρός, важное слово апостола Павла. «Христос послал меня […] благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не истощить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книжник? где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то угодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Каким бы отточенным и изощренным ни было человеческое слово, оно ложь, притупляет остроту несказанной тайны, делает пресной ее соль, которою должен осолиться мир чтобы не сгнить. Без соли он испортится, как мясо в теплоте. Любая сколь угодно глубокая человеческая мудрость не на высоте той божественной соли, которая в Кресте Иисуса Христа; человеческое остроумие до остроты небесной софии не достигает. Дважды сказанное здесь (1 Кор 1) апостолом Павлом слово μωρία имеет немного различающиеся грамматические формы и противоположное значение. Для мира, погибающего от того что в нем всё пресно и нет соли, которая спасла бы его среди жара страстей, крест Христов кажется глупостью, юродством, уродством, безумием. На самом деле однако безумием оказывается хваленая человеческая мудрость, не умевшая склониться перед мудростью Бога, — склониться в том смысле, в каком Филон Александрийский, близость к кому прослеживают у Павла, делает свободную философию рабыней нечеловеческой софии.
Юрод нуждается в опекуне. Средневековье имеет опекуном слово божественного авторитета. Верующий ум следует за авторитетом — и это значит, что он ведет себя не так, как вел себя авторитет, восходивший к своим прозрениям. Средневековье не следует авторитету. Плотин следует за Платоном и значит не следует за ним: не спрашивает обо всём, не отдан вольному исканию. Признав авторитет своего священного писания, философия становится преданием, т. е. традицией, хранением и сбережением авторов. Не переставая быть свободной, она отдает свою независимость тому, перед кем не зазорно склониться. Именно тем, что предание не хочет быть ничем другим, кроме верного следования писанию, предание становится чем угодно, только уже не писанием — не слышанием и записью того, чего еще никогда не слышало человеческое ухо. Чтобы указать преданию на тот очевидный факт, что оно отличается от слова писания именно потому, что хочет это исходное слово хранить, нужно было вывести предание из его добровольной слепоты. Этим занялось Просвещение.
Священное юродство сродни экстатической радости, которую исследователи угадывают в подводном течении средневековой истории. Экстаз дает о себе знать в безумии юродства. Говорят о неединстве средневековой идеологии; христианство не было таким мировоззренческим монолитом, как мы склонны его представлять. Наверное. Вещи всегда не так просты как представляются с первого взгляда. Однако существо Средневековья не определялось идеологией. Оно скреплено не воззрением на мир, а вкусом к мудрой темноте и к юродствующему экстазу, что и в иудаистском, и в исламском, и в языческом Средневековье было таким же как в христианском. Это был вкус к молчанию, которое не хотело рисковать разглашением себя и скрывалось в юродство. Нужен был вкус к безумству, чтобы так изображать человека, как его намеренно, неуклонно изображает Средневековье; чтобы в упор не видеть вещи такими, какими они кажутся; чтобы предпочитать темноту, непонятность свету. Мы не претендуем здесь на понимание Средневековья; это непосильная нам и не наша задача. Наша цель не разгадать его загадку и дать ему определение, а обозначить тот высокий порог, через который обязательно придется переступить каждому, чтобы приблизиться к средневековой мысли. Это порог священного безумия, мории, юродства. Просвещение начнется с издевательства над морией (у Эразма Роттердамского) и с пафоса возрастания. Юродивое нежелание роста отшатывалось от прогресса. У Августина есать эпитет для прогресса — «смертоносный».
Средневековая мысль следовала несобственному, в двух взаимосвязанных значениях, слову: во–первых, не нашему, божественному, авторитетному слову; во–вторых, косвенному слову, которое именует вещи, не именуя, и говорит так, что молчит, не давая слово молчанию как таковому. Исследователи (Эрвин Панофски) находят, что если бы Плотин написал эстетику (ее так или иначе вычитывают из плотиновских «Эннеад»), то была бы теория нереалистического средневекового изображения. Когда Плотин решил наконец учить и открыл свою школу, впечатление от его лекций было такое, словно он, нарочно путая своих слушателей, учит их беспорядочному мышлению и пустякам. Редактированием не смогла быть исправлена небрежность его стиля, не заботящегося о том, как и что в нем поймут и поймут ли. Его синтаксис сцеплен не столько грамматическими средствами, сколько связью мысли. Для Дионисия Ареопагита, у которого имеются начала эксплицитной эстетики, юродское изображение Божества предпочтительнее уподобляющего, которое силится передать его черты и всё равно остается безнадежно несоизмеримым прообразу. Конечно, юродство не монополия средневековья. Юродство видели у Сервантеса, часто у нас, например, в литературном жесте В. В. Розанова. Но в Средневековье оно выступает лицом всей эпохи. Своим юродствующим лицом та эпоха повернута к нам, как наша эпоха повернута к нам лицом просвещения, множеством прожекторов силящегося высветить тьму.
Средневековье говорит о другом мире. Исследователи с огорчением констатируют: о земном мире из средневековых сочинений часто бывает возможно что‑то (немногое) узнать только косвенно. Средневековое слово не полный голос человеческого существа. Оно всегда произносится к слову, вставляется в заранее готовые ячейки, подобно тому как средневековое искусство никогда не свободно в выборе темы. Оно искусство по случаю. Средневековая поэзия пишется как вставки в богослужение там, где оставлены подлежащие заполнению окошки, или как инкрустации в уклад жизни замка (города). Произносимое всегда к слову и истолковывающее слово авторитета, средневековое слово никогда не звучит самостоятельно и нуждается в восстановлении своего контекста. Ни мысль, ни поэзия в ту эпоху не говорят открытым голосом. Они косноязычат не от невежества, а от экстаза. Схоластические доказательства имеют жесткую логическую форму, но одновременно производят впечатление речи, которая стала ритмической от восторга.
Не раз отмечалось, что схоластические доказательства бытия Божия в действительности ничего не доказывают и не могут доказать. Про–настоящему доказательств никому не требовалось. Достаточно было Священного писания. Предполагавшийся им опыт божественного присутствия не оставлял после себя уже никаких сомнений. Логика Средневековья была тоже своеобразным юродством, втискиванием мысли в рамки силлогизмов тогда, когда мысль была готова забыться в экстазе. Если бы пошатнулся хранимый мир веры, если бы в него прокрался холод сомнения, логические плетения никому бы уже всё равно не помогли. Они предполагали устроенность духа и поддерживали ее, созданную не ими, а принятым словом откровения. Если бы средневековое здание духовного устроения пошатнулось, средневековое слово не умело бы его восстановить, и потребовалось бы вслушиваться уже не в слово авторитета, а в сами вещи. Пошатнувшееся здание традиции самой традицией восстановлено быть не может. Здесь требуется возвращение к тому, откуда берет свое начало всякая традиция, т. е. не к навыкам сложившейся культуры, а к опыту рискованного вслушивания в несказанное. Открытое искание возобновилось в Европе, когда средневековое здание действительно пошатнулось. Что‑то подобное неизбежно будет происходить всякий раз, когда начинают рушиться исторические постройки.