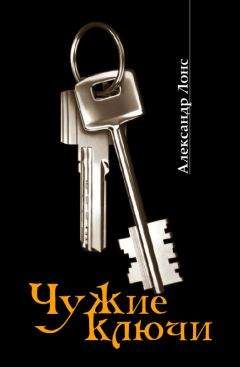Арчибальд Кронин - Ключи Царства
Фрэнсису стало вдруг очень холодно, как будто его ударила сильная струя морозного воздуха, его стала бить дрожь. Он смотрел на Шона, всеми фибрами души отказываясь верить услышанному. Спустя, как ему показалось, долгое время, он услышал свои слова:
— Уилли слишком много работал. Он свалился от слабости.
Черные суровые глаза Шона чуть приметно дрогнули.
— Да. Он свалился.
Снова наступило молчание. И тогда Фрэнсис понял, что случилось самое худшее. Он побледнел. Сразу же, в чем был, отец Чисхолм отправился с лейтенантом.
Полпути они прошли в полном молчании. Потом Шон с военной точностью, пресекающей всякие эмоции, кратко рассказал, что произошло. Доктор Таллох вошел с очень усталым видом и хотел выпить. Когда он наливал себе виски, он вдруг страшно закашлялся и оперся, чтобы удержаться, на бамбуковый стол. Лицо его стало тускло-серым, а на губах показалась красновато-лиловая пена. Когда Мария-Вероника подбежала помочь ему, он, прежде чем свалиться, слабо улыбнулся ей и сказал:
— Теперь пора посылать за священником.
В то время как они подошли к госпиталю, на занесенные снегом крыши, как усталое облако, уже спускалась мягкая серая мгла. Фрэнсис и Шон быстро вошли. Таллох лежал в маленькой комнатке на своей узкой походной кровати под стеганым покрывалом из пурпурного шелка. Сочный глубокий цвет покрывала подчеркивал его ужасную бледность, отбрасывая синевато-багровую тень на лицо. С мучительной болью Фрэнсис увидел, как быстро сразила его лихорадка. Можно было подумать, что это не Уилли, а какой-то другой человек. Он так невероятно осунулся и высох, как будто болезнь изнуряла его много недель. Язык и губы распухли, глаза остекленели и налились кровью.
Мария-Вероника стояла на коленях у кровати, поправляя пузырь со снегом на лбу больного. Она держалась очень прямо, напряженно, выражение лица было строго и сосредоточенно. Когда отец Чисхолм и лейтенант вошли, монахиня встала. Она не заговорила.
Фрэнсис подошел к кровати. Ужасный страх сжимал его сердце. Смерть шла рядом с ними все эти недели, она стала для них привычной и незначительной, какой-то отвратительной обыденностью. Но теперь, когда тень смерти легла на его друга, боль, пронзившая его, была необычна и ужасна. Таллох был еще в сознании, его остановившийся взгляд еще узнавал.
— Я приехал за приключениями, кажется, я добился своего, — Уилли попытался улыбнуться.
Через минуту он добавил, полузакрыв глаза, словно эта мысль только что пришла ему в голову:
— Старина, я слаб, как котенок.
Фрэнсис сел на низкий стул у его изголовья. Шон и Мария-Вероника отошли в другой конец комнаты.
Тишина, мучительное чувство ожидания были невыносимы, и они все возрастали, и вместе с ними росло внушающее страх ощущение вторжения в то тайное, чего нельзя постигнуть.
— Тебе удобно?
— Могло бы быть хуже. Дай мне глоточек того японского виски. Оно поможет мне. Старина, это ужасная рутина — умирать так… особенно мне… я всегда ненавидел хрестоматийные рассказы…
Когда Фрэнсис дал ему глотнуть спиртного, Уилли закрыл глаза и, казалось, уснул. Но скоро он начал тихо бредить.
— Ну-ка, парень, дай мне еще выпить. Ах, чтоб тебя! Вот это вещь! Я не мало попил такого в Тайнкасле. Ну, а теперь я уезжаю домой в милый старый Дэрроу… На берега Алланских вод, где пролетела дивная весна… Тебе нравится эта песенка, Фрэнсис? Это хорошая песенка. Спой ее, Джин. Да погромче, громче… я не могу слышать тебя в этой темноте.
Фрэнсис заскрежетал зубами, подавляя свое отчаяние. К Уилли снова вернулось сознание.
— Ладно, ладно, ваше преподобие. Я буду лежать тихонько и беречь силы. Все-таки это очень странно… в общем-то… всем нам предстоит когда-то перейти эту черту… — бормоча, он опять погрузился в безотчетность.
Священник на коленях молился около его кровати. Он молил о помощи, о наитии, но в то же время был странно нем, будто охвачен каким-то оцепенением. Город за окном в своем безмолвии казался призрачным. Наступили сумерки. Мария-Вероника встала, чтобы зажечь лампу, потом снова вернулась в дальний угол комнаты, куда не падал свет. Ее губы не шевелились, но пальцы под халатом без остановки перебирали четки.
Таллоху становилось все хуже: язык у него почернел, горло так опухло, что нестерпимо было смотреть на него во время приступов тошноты. Но вдруг он словно бы оживился и приоткрыл глаза.
— Который час? — спросил он хриплым, лающим голосом. — Скоро пять… а дома… в это время там пьют чай… помнишь, Фрэнсис, сколько нас собиралось за большим круглым столом?.. — он надолго замолчал. — Ты напиши моему старику и скажи ему, что его сын умер, как мужчина. Забавно… я все еще не могу поверить в Бога.
— Какое это теперь имеет значение? — Фрэнсис сам не знал, что он говорит. Он плакал, чувствуя глупое унижение от своей слабости, оттого, что слова его были бессвязны и беспомощны. — Он верит в тебя…
— Не заблуждайся, я вовсе не каюсь.
— Всякое человеческое страдание является актом покаяния…
Наступило молчание. Священник больше ничего не говорил. Слабым движением Таллох протянул руку, и она упала на руку Фрэнсиса.
— Старина, я никогда еще не любил тебя так сильно, как сейчас… за то, что ты не стараешься запугать меня и затащить на небо… понимаешь… — его веки устало опустились. — У меня ужасно болит голова, — голос прервался. Он лежал на спине в полном изнеможении, быстро и неглубоко дыша, со взглядом устремленным вверх, будто он видел что-то там, за потолком. Горло его было совершенно сжато, он не мог даже кашлять. Конец был близок. Теперь Мария-Вероника стояла на коленях у окна, спиной к ним, неотрывно глядя в темноту. Шон стоял в ногах кровати со страдальчески застывшим лицом.
Вдруг Уилли повел глазами, в которых еще мерцала слабая искорка. Фрэнсис увидел, что он тщетно старается что-то прошептать. Он встал на колени, обвил руками умирающего, приблизил щеку к его губам. Сначала он ничего не мог расслышать. Потом до него дошли еле различимые слова:
— Наша борьба… Фрэнсис… пожалуй, за нее можно простить мне мои грехи.
Его глазницы заполнились тенями. Уилли охватила невыразимая усталость. Священник скорее почувствовал, чем услышал последний слабый вздох. В комнате словно стало еще тише. Все еще держа его тело, как мать могла бы держать своего ребенка, Фрэнсис начал тихим прерывающимся голосом, почти не сознавая, что он говорит, читать De profundis: «Из глубины пропасти взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой… ибо Господь полон милосердия, и в Нем наше спасение…»
Наконец отец Чисхолм встал, закрыл покойному глаза, сложил безвольные руки. Выходя из комнаты, он увидел Марию-Веронику, все еще склоненную у окна. Как в полусне, посмотрел на Шона и краем сознания отметил со смутным удивлением, что плечи молодого офицера конвульсивно вздрагивали.
6
Чума прошла, но великая апатия охватила занесенную снегом страну. В деревне рисовые поля превратились в замерзшие озера. Немногие уцелевшие крестьяне не могли обрабатывать землю, наглухо погребенную под снегом. Нигде не было ни признака жизни. В городах оставшиеся в живых медленно пробуждались от мучительной спячки и вяло возвращались к повседневной жизни. Купцы и чиновники еще не вернулись. Говорили, что многие дальние дороги были совершенно непроходимы. Никто не помнил такой плохой погоды. Ходили слухи, что все горные переходы завалены снегом. Участились обвалы, с шумом проносящиеся в далеких горах Гуан, похожие на клубы чистого белого дыма.
Река в верховьях промерзла до дна и лежала гигантским серым пустырем, над которым ветер в слепом отчаянии нес снежную пыль. Ниже по реке был канал, громадные глыбы льда с грохотом сталкивались и разбивались под Маньчжурским мостом. В каждом доме была нужда, и голод притаился совсем рядом.
Одна лодка рискнула пробиться сквозь острые зубчатые плавучие льдины и поднялась от Сэньсяна вверх по реке. На ней было доставлено продовольствие и медикаменты из экспедиции Лейтона, а также сильно запоздавшая пачка писем. После короткой остановки, забрав остальных людей из группы доктора Таллоха, лодка отправилась обратно в Нанкин.
В полученной почте было одно сообщение более важное, чем все остальные, отец Чисхолм медленно шел из того конца сада, где маленький деревянный крест отмечал могилу доктора Таллоха, с письмом в руке, и мысли его были заняты приездом каноника Мили, о котором оно извещало. Он надеялся, что работа его была удовлетворительна — миссия, конечно, заслуживала того, чтобы он мог гордиться ею. Если бы только погода переменилась, если бы в ближайшие две недели все растаяло! Когда Фрэнсис подошел к церкви, мать Мария-Вероника спускалась со ступенек. Он должен сказать ей… хотя он стал страшиться тех редких случаев, когда какое-нибудь дело заставляло его нарушать молчание между ними…