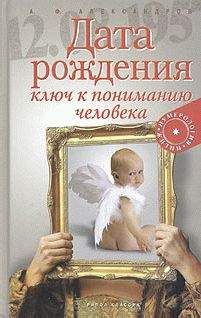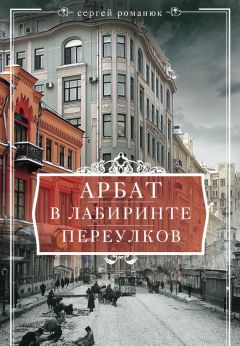Александр Кожев - Атеизм и другие работы
Вслед за Гегелем Кожев считал национальное государство подлинным носителем права, но с тем отличием, что в будущем (в грядущей Империи) такое государство обречено на исчезновение. Национальное государство (равно как его предшественники, начиная с самых архаичных древних царств) соединяет в себе политические и правовые функции. Политическое Кожев — под непосредственным влиянием К. Шмитта — определял как отношение «друга — врага». Пока с другим соотносятся как с врагом, существуют политические отношения, для которых нет «третьего», нет ни законодателя, ни судьи. В борьбе не на жизнь, а на смерть не может быть правового вмешательства. Правовые отношения возможны только между «друзьями», и национальное государство в этом смысле есть сообщество «друзей»; конфликты между ними могут решаться юридическими процедурами. Суверенные государства неизбежно враждебны друг к другу, и мирный договор между ними может быть в любой момент расторгнут на основании raison cTEtat. В самом национальном государстве также могут иметься «враги», по отношению к которым применимы неправовые средства: бунт или вооруженный мятеж подавляют силой, которая лишь прикрыта статьями законов. Пока в рамках государства сохраняются кастовые или классовые различия, оно реализует внутреннюю политику, и право выступает как инструмент господства. К врагам национального государства Кожев относил не только откровенных бунтарей — революционеров, но и те организации, которые выступают с проектами единого человечества. И католическая церковь, и коммунистическая партия относятся к такого сорта «внутренним врагам». Европейские национальные государства в свое время вели борьбу с папством, примирение произошло сравнительно недавно (во Франции в то время хорошо помнили о конфликтах III Республики с католической церковью в конце XIX — начале XX веков). Государство еще может примириться с религией («не от мира сего») или просто ею не интересоваться (допускать существование католиков, но не политический проект вселенской теократии); «но национальное государство, если оно желает оставаться национальным, не должно терпеть существования коммунистов как собственных граждан»[18]. Не только коммунисты, но и любые сторонники «глобализации» должны преследоваться любым уважающим себя национальным государством как «пятая колонна» и «внутренний враг», отрицающий сам принцип национального суверенитета. Правда, следует учитывать, что сам Кожев тоже принадлежал к сторонникам постепенной ликвидации национальных государств в Империи. Только в ней политические отношения целиком замещаются правовыми. Государство тогда беспристрастно, поскольку оно «гомогенно» — в нем нет социальных противоречий и политических партий; если оно «универсально», то у него нет «врагов» и вовне, а потому политика исчезает как таковая. Поэтому само слово «государство» с трудом применимо к Империи в собственном смысле слова, так как нет ни отношений господства — подчинения внутри, ни внешних врагов.
В рецензии на книгу Л. Штрауса «О Тирании» (включенную затем во французское издание книги вместе с ответом Штрауса) «Тирания и мудрость» дана, скорее, оптимистическая трактовка «конца истории», завершающаяся не только царством Гражданина, но и правлением Мудреца. Философ, по определению, не является мудрецом, поскольку к мудрости он только стремится, а всякое стремление предполагает нехватку. Мудрецом он считает того, кто способен разумно решать любые мыслимые теоретические и практические проблемы. Гегелевская система не дает нам мудрости, но она завершает развитие философии, показывая предел развития разума. Эта система является конечным пунктом европейской философии, начавшейся с Парменида и Гераклита. Вернее, имя первого философа мы вообще не знаем — им был некий «Фалес», живший, быть может, за тысячелетия до первого известного нам мыслителя. Им был тот, кто стал понятийно мыслить и соответствующим образом задавать вопросы. Крайним историцистом Кожев не является именно потому, что для него в историческом становлении имеется не только изменчивое, но и абсолютно неизменное. При всех особенностях времен и культур, человек есть мыслящее существо, способное разумно ставить вопросы и давать на них ответ. Мудрость для него является способностью «умного деяния», о котором в богословских терминах говорили отцы церкви. Вершиной эволюции у него оказывается не ницшеанский сверхчеловек, но абсолютно разумное существо, которое не может не быть в то же самое время абсолютно добродетельным. Любопытно, что, по многим свидетельствам, в последние годы жизни он занимался изучением прежде всего патристики, а в докладе, посвященном памяти А. Койре (1964), попытался выявить христианские корни всей науки Нового времени. Разумеется, христианином он не был и становиться им не собирался. Истина христианства для него заключалась в демифологизации природы, в превращении статической картины мира в динамическую. В предисловии к трудам Батая (1950) он писал так:
«Гегелевская Наука, вспоминающая и соединяющая в себе историю философского и теологического рассуждения, может резюмироваться следующим образом: От Фалеса до наших дней, достигая последних пределов мысли, философы обсуждали вопрос о знании того, должна ли эта мысль остановиться на Троице или Двоице, либо достичь Единого, либо, по крайней мере, стремиться к достижению Единого, фактически эволюционируя в Диаде.
Ответ, данный на него Гегелем, сводится к следующему:
Человек, безусловно, однажды достигнет Единого — в тот день, когда сам он прекратит существовать, то есть в тот день, когда Бытие более не будет открываться Словом, когда Бог, лишенный Логоса, вновь станет непроницаемой и немой сферой радикального язычества Парменида.
Но пока человек будет жить как говорящее о Бытии сущее, ему никогда не превзойти неустранимой Троицы, каковой он является сам и каковая есть Дух.
Что же до Бога, то он есть злой демон постоянного искушения — отказа от дискурсивного Знания, то есть отказа от рассуждения, которое, по необходимости, закрывается в себе самом, чтобы сохраняться в истине.
Что можно на это сказать? Что Гегельянство и Христианство, по сути своей, являются двумя несводимыми далее формами веры, где одна есть вера Павла в воскресение, тогда как другая представляет собой веру земную, имя которой здравый смысл?
Что Гегельянство есть «гностическая» ересь, которая, будучи тринитарной, незаконным образом отдает первенство Св. Духу?»[19].
В полемике со Штраусом Кожев противопоставляет «теистической» картине мира, для которой возможно чистое созерцание действительности, «атеистическую», т. е. признающую только историю с ее боями. Эпикурейского Сада не существует, а «республика письмен» означает бегство от действительности. От шума и ярости мира сего мы можем бежать только в воображении. Но если философ обязан принимать участие в борьбе, то он может оказаться даже советником у тирана. Разумеется, проще всего сказать, что не всякий тиран для этого годится. Кожев не пускается в оговорки подобного рода, так как они уводят от принципиальной постановки вопроса. Речь ведь идет именно о тиране, а не о ком‑то другом. Философы в прошлом по — разному решали этот вопрос, но сравнительно немногие делали радикальные выводы. Выбор, если не прибегать к уловкам, не так уж велик: либо уход в монастырь (или какой‑нибудь «Сад»), либо участие в политике, в том числе и в те времена, когда у власти неизбежно оказываются тираны. Читая Кожева, мы, конечно, можем вспомнить про «Государя» Макиавелли (в макиавеллизме его обвинит и Штраус), но отличия все же понятны: Макиавелли имел в виду объединение Италии, т. е. конкретную цель, сходную, скажем, с теми целями, которые в Древнем Китае в близком духе ставил Хань Фэй — цзы (гл. 12 его трактата). У Кожева мы имеем дело с исторической закономерностью, ведущей к «концу истории».
Для Гегеля, который был наследником Просвещения и всего рационализма Нового времени, человек представляет собой, прежде всего, разумное существо, а вся его история есть история абсолютного духа. Конечно, Кожев не только пользуется гегелевской терминологией («вожделение», «борьба за признание», «господство и рабство»), у него сохраняются и элементы гегелевского рационализма, что отличает его философию от антиинтеллектуализма многих его современников. Тем не менее его видение человека и истории по сути своей иное. Это хорошо заметно по переведенному отрывку (трем параграфам из первой части «Очерка феноменологии права»). Движущей силой истории в нем оказывается не дух, но вожделение, ставшее «желанием желания». Человек преодолевает животное в себе не посредством разумных аргументов, а посредством отрицания его с помощью того, что еще Платон называл «яростным началом души». Разум развивается вместе с трудовой деятельностью, но труд есть удел раба, он есть следствие предшествовавшей ему борьбы. В борьбе один бесстрашно идет до конца, другой в страхе и трепете подчиняется инстинкту самосохранения: к труду «в поте лица своего» человек обращается только под страхом смерти.