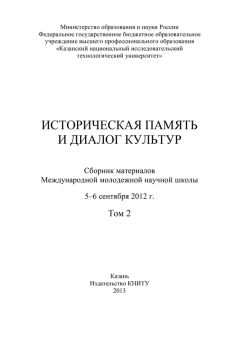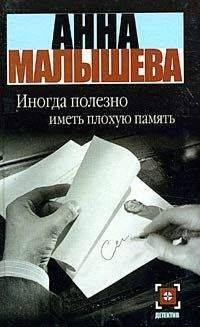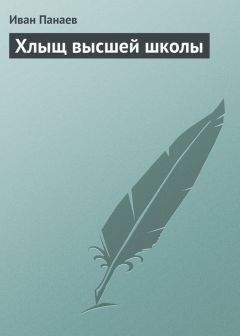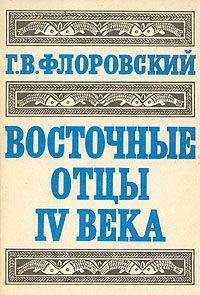Георгий Флоровский - Избранные богословские статьи
Георгий В. Флоровский.
Медон под Парижем
декабрь 1927 год.
печатается по книге: «Вопросы религиозного воспитания и образования» Выпуск II. Париж 1928. Издание Религиозно–Педагогического кабинета при Православном Богословском институте
ЗАПАДНЫЕ ВЛИЯНИЯ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ
Вопрос о западных влияниях в православном богословии крайне сложный. В наше время он поднимался уже не раз, порою — остро и взволнованно.
Митрополит Антоний Храповицкий (ум. в 1936) настаивал, что все русское школьное богословие, начиная с семнадцатого века, представляло собой череду опасных заимствований из инославных западных источников. Поэтому, согласно Митрополиту Антонию, мы должны отречься от этого богословия и начать сначала.
«Нужно признаться открыто всем, что система православного богословия есть нечто искомое, а потому нужно тщательно изучать его источники, а не списывать системы с учений еретических, как это делается у нас уже в течение двухсот лет» [1].
Многие чувствуют, что русское богословие было безнадежно искажено западными влияниями. Отсюда созрело убеждение, что нам необходимо решительно исправить богословие в самих его основах, обратившись к забытым источникам подлинного, святоотеческого Православия. Такой поворот подразумевает разрыв и отречение от многовековых привычек. «Борьба с Западом» в русском богословии действительно необходима, и для нее накопилось достаточно поводов и причин. Однако история этих западных влияний и заимствований в Православном богословии изучена еще недостаточно. А начинать надо, в любом случае, с точного изложения фактов.
В этой небольшой работе читателю придется удовольствоваться ограниченным числом фактов — лишь самыми важными, решающими и показательными из них. Того же, кто желает изучить проблему более полно, отсылаю к моей книге «Пути русского богословия».
I.
Традиционное представление о полной изоляции и закрытости Древней Руси давно отброшено. Древняя Русь никогда не была полностью отрезана от Запада. И связь с Западом утверждалась не только в сферах экономики и политики, но также и в сфере духовной, даже в области религиозной культуры [2]. Византийское влияние оказалось главным и решающим: но оно, без сомнения, было не единственным. Трудно не заметить ослабление Византийского влияния в шестнадцатом веке — кризис русского византинизма. Дольше и глубже всех к тому времени с Западом был связан Новгород. А в четырнадцатом–пятнадцатом веках этот город стал религиозным и культурным центром всего русского северо–запада. Стремительно возвышавшаяся в то время Москва в культурном отношении зависела прежде всего от новгородских источников. Книги доставлялись в Москву именно из северной республики [3].
А в Новгороде в это время производилась, по благословению Архиепископа Геннадия, большая и очень важная богословская работа, — составление первого полного славянского библейского свода. Библия изначально была переведена на славянский не как целая и единообразная книга — скорее как собрание богослужебных чтений, основанное на порядке и цикле литургического года. Этот перевод охватывал не весь Библейский текст: второканонические книги Ветхого Завета переведены не были, и лишь много лет спустя некоторые из них появились в Восточных лекционариях. Общее смотрение и руководство официально принадлежало владычнему архидиакону Герасиму Поповке. Но реальным духовным вождем был доминиканский монах по имени Вениамин, согласно свидетельству летописца, «презвитер, паче же мних обители святаго Доминика, родом словенин, а верою латынянин». Мы мало знаем о нем. Но вряд ли доминиканский монах из Хорватии оказался в Новгороде случайно. Очевидно и то, что он привез с собой полный текст Библии. В Геннадиевском Библейском Своде чувствуется сильное влияние Вульгаты. Именно Вульгата, а не греческие рукописи, служила образцом для составителей. Второканонические книги включены в Кодекс сообразно с использованием их у католиков. Книга Паралипоменон, Третья книга Ездры, Премудрость и первые две книги Маккавейские полностью переведены с латыни. Один ученый, изучавший рукописную традицию славянской Библии [проф. И.Е. Евсеев] характеризует Геннадиевскую Библию как «сдвиг славянской Библии с греческого русла в латинское». Не забудем, что первая печатная русская Библия — «Острожская» (1580) основана именно на Геннадиевской Библии. Разумеется, текст был пересмотрен и сличен с печатной греческой Библией — историческое значение Острожской Библии в том и состоит, что она основана на греческом тексте — однако постоянное соскальзывание на латинский путь осталось непреодоленным до конца. Острожский текст с некоторыми изменениями был воспроизведен в «Елизаветинской Библии» 1751 года — и по сей день используется [4]. В «Архиепископском дому» Геннадия вообще много переводят с латыни. В процессе работы над новым богослужебным уставом была переведена, по крайней мере в извлечении — очевидно, для справок — знаменитая работа В. Дурантия «Rationale divinorum officium» [Распорядок божественной службы]. По языку в переводчике угадывается иностранец — не был ли это тот же монах Вениамин? К тому же времени относится переведенное с латыни «Слово кратко противу тех, иже в вещи священныя, подвижныя и неподвижныя, соборныя церкви вступаются» — слово в защиту церковных имуществ и полной независимости духовного чина, который имеет при том право действовать «помощию плечий мирских». Хорошо известно и многозначительное упоминание о «спанском короле», который, как рассказывал цесарский посол, с помощью государственного преследования «свою очистил землю» от еретиков [5].
Итак, у нас есть основания говорить о «невидимом сближении с латинством» [И.Е.Евсеев] в окружении Геннадия. В пятнадцатом–шестнадцатом веках западные мотивы проникают и в русскую иконопись: из Новгорода и Пскова они приходят в Москву, где в определенных кругах вызывают протест как «новшества» и «искажения»: здесь лежит историческое значение известного «сомнения» дьяка И.М.Висковатого о новых иконах. Однако церковные авторитеты принимали эти новшества с восторгом, видя в них что–то древнее. Во всяком случае, западное влияние утвердилось даже в священном искусстве иконописания [6]. «Западное» в этом контексте, разумеется, означает «римское», «латинское». Символом этого движения на Запад стала «свадьба Царя в Ватикане». Действительно, этот брак означал не столько новый подъем византийского влияния, сколько сближение Москвы с Италией. Не зря в это же время итальянские мастера обстраивают и перестраивают Кремль. Естественно, новые постройки проникнуты, как пишет Герберштейн, «итальянским духом» [more Italico] [7]. Еще показательней то, что Максим Грек, вызванный в Москву из Афонского монастыря Ватопед для помощи в переводах, не нашел в Москве ни единого человека, знавшего по–гречески. «Он сказывает по–латински, а мы сказываем по–русски писарем». Переводчиком стал Дмитрий Герасимов, бывший ученик и помощник Вениамина [8]. Разумеется, неверно было бы объяснять эти факты как проявление католических симпатий Новгорода или Москвы. Русские люди усваивали чуждые духовные ценности полубессознательно, с наивным убеждением, что смогут при этом остаться верны родной и привычной истине. Так «западная» психология странным образом соединялась в России с нетерпимостью к Западу.
II.
По другую сторону Московской границы общение с Западом было более близким и непосредственным. Литва и Польша столкнулись сперва с Реформацией и «социанизмом», затем с Римской Церковью, иезуитами и «Унией». Борьба за Православие была напряженной и трагической, а заимствования у инославных союзников, соперников, противников, даже врагов — психологически неизбежны. Вначале в Острожском кружке и в Лемберге (Львове), в доме самого князя Острожского ориентировались на греков, велико было стремление к созданию единой славяно–греческой культуры. По многим причинам от этот замысел оказался неосуществимым. Даже в самом Острожском кружке мнения разделились, а общее настроение было неустойчивым.
Практическая мудрость жизни указывала на Запад. Перед лицом угрозы Унии православные должны были даже против воли искать союзников среди протестантов и «инославных». И многие были готовы идти даже дальше простого практического сотрудничества: в этом смысле очень характерны, например, отношения православных и кальвинистов на съезде в Вильно (1599), когда был заключен религиозно–политический союз — «Конфедерация». Князь К. Острожский привлек для составления православного опровержения на книгу Петра Скарги «На отпадение греков» социнианина Мотовилу, к величайшему негодованию и возмущению непримиримого князя А.М. Курбского. А ответ православных на книгу Скарги о Брестском Соборе был фактически написан кальвинистом. На титульном листе знаменитого «Апокрисиса», отпечатанного в 1587 году, стоит имя Христофора Филалета. Можно с достаточным основанием догадываться, что этот псевдоним принадлежит известному дипломату того времени, Мартину Броневскому, секретарю короля Стефана Батория, активно участвовавшему в конфедерации между православными и евангелистами. В самом «Апокрисисе» заметно сходство с Кальвиновским «Institutio Christianae religionis» [9].