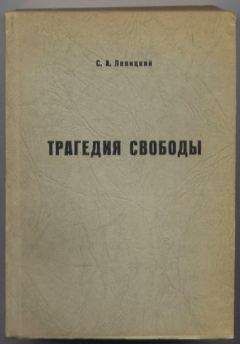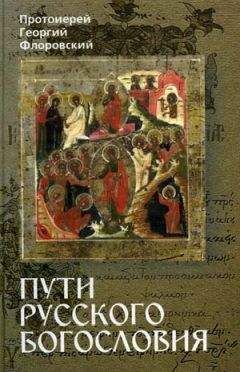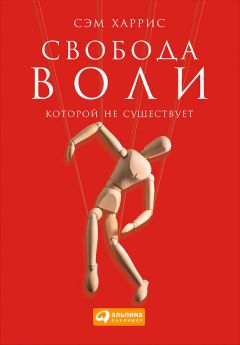Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть II
Здесь атеистическое предсказание прямо противопоставляется религиозному. Однако, сам атеизм есть ответ тоже именно на религиозный вопрос. Проблематика Фейербаха не менее религиозна, чем проблематика Баадера…
Философский подъем тридцатых и сороковых годов имел двоякий исход. Для одних открылся путь в Церковь, путь религиозного восстановления, — религиозный апокатастазис мысли и воли. Для других это был путь в безверие и даже в прямое богоборчество. Этот раскол или поляризация русской культурной элиты происходил именно на религиозном уровне. Такую же поляризацию мы наблюдаем и в истории немецкого идеализма: Фр. Шлегель, Геррес и Баадер, с одной стороны, Фейербах и вся гегельянская «левая», с другой. Это не только сопоставление, здесь есть прямая связь, зависимость и влияние. И нужно помнить, что разделилась «гегелевская школа» именно на религиозных темах…
4. Историософия русской судьбы.
Видимым образом русское общество разделилось в сороковые годы в спорах о России. Но в этих историософических разногласиях уже только проявляется несходство в чем-то более глубоком и основном…
Задумываться о русской судьбе (или о русском призвании) в те годы поводов и мотивов было достаточно, — после Двенадцатого года с его «всенародным опытом», после всех этих военных и невоенных встреч с Европой… Россия в Европе, — такова была тема действуемой истории в Александровское время. И сопоставления напрашивались сами собой…
«История Государства Poccийского», эта героическая повесть или эпопея, при всех своих недостатках, всех заставила тогда почувствовать реальность русского прошлого, — реальность и допетровской истории…
Тему о национальном призвании или назначении подсказывала и романтика. Возникал вопрос о месте России в общем плане или схеме «всемирной истории…»
Историософия русской судьбы и становится основной темой пробуждающейся теперь русской философской мысли. И в этом историософическом плане снова с полной отчетливостью встает в русском культурно-общественном сознании религиозный вопрос. В опыте и раздумьи все очевиднее становится русское историческое своеобразие, некая историческая противопоставленность России и «Европы». Это различие от начала было опознано, как различие в религиозной судьбе. Так именно был поставлен вопрос в роковом «Философском письме» Чаадаева…
Чаадаев (1794–1856) принадлежал к предыдущему поколению, был сверстником декабристов. В идеалистических спорах он стоит, при всей своей общительности, как-то обособленно. Его мировоззрение сложилось всего более под влиянием французского «традиционализма», под влиянием Бональда и Балланша, отчасти де-Местра, — и личные связи соединяют Чаадаева именно с неокатолическими салонами Парижа (Сиркур, барон Экштейн, — в этих же кругах вращается в те годы А. И. Тургенев). Позже прибавляется влияние Шеллинга. В молодости Чаадаев прошел через увлечение Юнгом-Штиллингом и другими мистиками того же типа. Был и оставался дружен с А. И. Тургеневым, с кн. С. С. Мещерской…
Чаадаева принято называть первым западником, и с него именно начинать историю западничества. Первым назвать его можно только в непрямом смысле, — в его поколении все были западниками, часто просто западными людьми. И западником он был своеобразным. Это было религиозное западничество. Магистраль же русского западничества уходит уже и в те годы в атеизм, в «реализм» и позитивизм…
Образ Чаадаева до сих пор остается неясным. И самое неясное в нем, это — его религиозность. В своих дружеских письмах он был, во всяком случае, достаточно откровенен. Но даже здесь он остается только блестящим совопросником, остроумным и острословным. У этого апологета Римской теократии в мировоззрении всего меньше именно церковности. Он остается мечтателем-нелюдимом, каких много было именно в Александровское время, среди масонов и пиетистов. Он идеолог, не церковник. Отсюда какая-то странная прозрачность его историософических схем. Само христианство ссыхается у него в новую идею…
Чаадаев не был мыслителем, в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него «систему». У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат христианской философии истоpии. История есть для него созидание в мире Царствия Божия. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю. Отсюда именно и становится понятной вся горечь «Философического письма…»
«Мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода», — или, иначе сказать, «мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества…»
Исторический горизонт Чаадаева замыкается Западной Европой… «Ничто из происходившего в Европе не достигало до нас». В этой исторической обособленности Чаадаев видел роковое несчастье. Он, конечно, никак, не отожествляет культурной обособленности или обделенности России с первобытной дикостью и простотой. Он утверждает только неисторичность русской судьбы…
Впоследствии из тех же предпосылок Чаадаев делает противоположные выводы (в «Апологии сумасшедшего» и в ряде писем). Он понял теперь, что быть историческим новорожденным отнюдь еще не значит быть обреченным на всегдашнее младенчество, что иметь в прошлом только белые листы еще не значит, что будущего так и не предстоит. Напротив, ему открывается двусмысленность богатого прошлого, «роковое давление времен». Именно свобода от западного прошлого, кажется теперь Чаадаеву, дает русскому народу несравнимое преимущество в строении будущего,— «ибо большое преимущество иметь возможность созерцать и судить мир со всей высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких корыстей». Теперь он видит именно в России «народ Божий будущих времен…»
И ему кажется, что в истории Царствия Божия уже начинается новая фаза. «Христианство политическое» должно уступить место христианству «чисто духовному». Начинается эпоха социального христианства…
В новой оценке русской «неисторичности» в прошлом Чаадаев сходился с московскими любомудрами, с Одоевским, прежде всего (срв. у Одоевского в «Русских ночах»). Может быть, именно встреча с ними и повлияла на Чаадаева. Еще позже в том же смысле отзовется Герцен, под влиянием Чаадаева…
В диалектике русского религиозно-исторического самосознания мысль Чаадаева имеет свой смысл и место. Чаадаев остро и резко рассуждал об историческом значении и призвании христианства. У него были свои мысли в философии истории. Но у него не было богословских идей или воззрений…
С конца 30-х годов он примыкал к спорам младшего поколения. Он многое вносит в эти споры, в само движение или развитие вопросов. То было скорее личное влияние, чем влияние определенной системы идей…
Это младшее поколение вскоре раскололось. «Славянофильство» и «западничество», — имена очень неточные, только подающие повод к недоразумениям и ложным толкованиям. Во всяком случае, это не только и даже не столько две историко-политические идеологии, сколько два целостных и несводимых мировоззрения. Две культурно-психологических установки, прежде всего…
Еще П. г. Виноградов очень удачно сводил это расхождение западников и славянофилов к «разномыслию в понимании основного принципа — культуры». Кажется, следует пойти еще глубже. «Западники», указывал Виноградов, «отправлялись от понятия культуры, как сознательного творчества человечества», — сразу поясним, такова постановка вопроса в Гегелевой философии права и общества. «Славянофилы», продолжает Виноградов, «имели в виду культуру народную, которая почти бессознательно вырастает в народе», — не узнаем ли мы здесь основной тезис «исторической школы», в ее противлении гегельянству?…
Таким противопоставлением все содержание раскола сороковых годов, конечно, еще не исчерпывается. Но психологический его смысл разгадан верно. Можно сказать и так: западники выразили «критический», славянофилы же — «органический» моменты культурно-исторического самоопределения, — потому и не было достаточно учтено в славянофильских схемах созидающее и движущее значение «отрицания» (срв. противопоставление «диалектики» и «эволюции» в общественной философии эпохи). И с этим связано новое разногласие: что признать последней реальностью в историческом процессе — «общество» («народ») или «государство». Здесь традиционализм «исторической школы» неожиданно смыкается с социалистическим радикализмом (срв. аналогичную близость или сродство «утопического социализма» с французской «теократической школой»). В славянофильском мироощущении очевиден привкус некоего своеобразного анархизма, эта неприязнь к предумышленному вмешательству в нептунический ход органических процессов, пафос «незаметных» и мельчайших изменений, слагающихся в непрерывности совокупного. За этим стоит недоверие к уединенной или обособляющейся личности (срв. очень характерный обмен мнений между Кавелиным и Юрием Самариным именно о личности в статьях 1847-го года). В восприятии тогдашних поколений религия опознавалась, прежде всего, именно как возврат к цельности, как собирание души, как высвобождение из того тягостного состояния внутренней разорванности и распада, которое стало страданием века. Подобный же религиозный постулат обобщался и на историческую действительность. Из того кризиса, в который вся Европа вовлечена была в своей истории, выход представлялся тогда только через такое «возвращение», через новое скрепление общественных связей, через восстановление цельности в жизни. Это не был «археологический либерализм», здесь сказывалось непосредственное и очень живое чувство современности. В романтизме вообще было много исторической непосредственной чуткости. И после Революции все чувствовали и в общественной жизни именно этот разлад и распад, размыкание и разобществление индивидуальных путей, атомизацию жизни, — чрезмерность «свободы», бесплодность «равенства», и недостаток «братства». В этом отношении особенно показательна острая критика современности у Сен-Симона, очень характерен и весь «позитивный» пафос Огюста Конта, обращенный именно против «отрицаний» революции. И оба с последней резкостью отрицаются Реформации, как восстания личности, замкнувшейся и обособившейся… В такой очень сложной и запутанной исторической обстановке воспитывалась новая чуткость к соборному бытию Церкви, пробуждалась и воспитывалась потребность и чуткость к церковности…