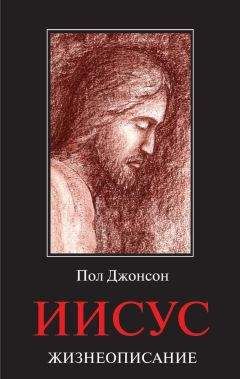Карен Свасьян - …Но еще ночь
В итоге: не столько русскую литературу уместили в России, сколько саму Россию посадили в русскую литературу, и, наверное, из всех выдумок и диковинок природы эта была наиболее фантастической: некая мастерская по производству непредсказуемостей, да еще и в жанре реализма (в более поздней аватаре даже: «социалистического реализма» ). Темпы метаморфозов поражают и здесь. Шестов[197]цитирует однажды замечание одного влиятельного критика по выходе в свет «Преступления и наказания»: «Счастливый народ, беллетристы! Когда нашему брату, ученому человеку, приходит в голову дикая мысль, мы не можем сделать из нее никакого употребления. Нельзя даже признаться, что она побывала у тебя в голове! Беллетрист же — дело иное: ему всякая дичь годится. Вложить её „в уста“ действующего лица и прав: никто ничего возразить не может». Это наиболее безобидный, отвлекающий внимание срез проблемы. Потому что действующее лицо, в уста которого вкладывается «дичь» , — не просто dramatis persona из пенсума литературоведов, а некий голем, спрыгивающий со страниц романа в жизнь, чтобы действовать уже не в переносно-эстетическом смысле, а в самом что-ни-на-есть прямом. Если современники, читающие Спенсера, Милля и Дрэпера, морщась, относили героев Достоевского по ведомству фантастики и психологии, то причина лежала, скорее всего, в дрэперовскоспенсеровском же понимании «реализмa». «Нет таких людей на Руси» . Совершенно верно. Но они — будут . Реалист не копист-списатель, а пророк-угадчик, потому что через считанные десятилетия общим местом станет понимать русского человека через Достоевского. Он выдумал их, всех этих студентов, подростков, идиотов и бесов, дав им место в инкубаторе сознания, после чего им не оставалось ничего иного, как нарождаться в безумных количествах и ждать своего часа. Еще и сегодня богатые русские туристы, буянящие в тихих швейцарских отельчиках и удивляющиеся, когда в этом видят хулиганство, а не тоску, даже не догадываются, насколько прочно они припаяны к карме русской литературы, расширившей их до «всечеловеков», чтобы они потом, мучась своей широтой, тщетно силились сузить себя до просто «человеков». До таких малостей, как приличие и такт. Какое еще, к чёрту, приличие, если они проснутся с тяжелым и темным чувством вины, смывать которую будут паломничеством в Иерусалим или отстаиванием очереди к поясу Богородицы!
3.
Карл Лёвит[198]прекрасно охарактеризовал однажды Гёте и Гегеля в словах: «Гёте развил немецкую литературу до мировой литературы, а Гегель немецкую философию до мировой философии. Их созидательной силе была присуща абсолютная нормальность, потому что то, что они хотели, соответствовало тому, что они могли». То же говорит однажды о себе и сам Гёте[199]: «Мое представление о совершенстве на всех ступенях моей жизни и развития мало чем разнилось от того, что я сам в состоянии был сделать на каждой ступени». Можно было бы, в несколько модифицированной форме, сформулировать это и как соответствие между душевным складом и возрастом. Притом не только и не столько в поведении, сколько в образе мысли и качестве мыслительных процессов. По типу: нормально, когда подросток мыслит наивно, а взрослый муж, соответственно, зрело; ненормально, когда подросток зрело, а иной убеленный сединой муж по-подростковому. Нет сомнения, что первое, нормальное, из названных соотношений встречается крайне редко, а второе, патологическое, едва ли не на каждом шагу. Нужно представить себе случай, когда, достигнув, скажем, 28-летнего возраста с соответствующим возрасту складом мысли, умственно останавливаются на достигнутом. Счетчик жизни накручивает годы как бы вхолостую, потому что с годами не умнеют, а остаются, даже если исполнилось 82, при своих неизменных 28-и. Другой крайностью этой аберрации было бы не отставание, а опережение, когда ум обгоняет возраст: действительно обгоняет или, чаще всего, внушает себе, что обгоняет. Можно допустить, что это отклонение имеет силу не только для отдельных людей, но и для народов, и что с помощью его мы лучше понимаем специфику различных исторических эпох. К примеру, пятый дохристианский век Греции или век Гёте: как редкие образцы соответствия. В других случаях речь идет как раз о разновидностях несоответствия, и мы едва ли ошибемся, если будем судить о нынешнем состоянии той или иной нации по её соотнесенности со своим прошлым либо будущим. Скажем, о сегодняшней Италии, как о пережившем себя собственном прошлом: душе, которая остановилась, как часовая стрелка, на головокружительном rinascimento, и только оттого продолжает жить, что ничего не знает о собственной смерти. Или о диаметрально противоположном случае: России, которая вот уже три века как умирает в будущее — только потому, что не может найти себя в настоящем.
4.
Нелепость петровской перестройки была не столько в том, что здесь на российскую почву пересаживался Запад, ни даже в том, что делалось это под страхом быть выпоротым, сколько в том, что пересаживалось сразу готовое и последнее . Но последнее Запада, его dernier cri, никак не годилось на то, чтобы и здесь быть последним. Здесь оно оказывалось первым: началом, но таким, которое разыгрывало себя в топике конца. Оттого, едва войдя в историю, сразу заняли ниши апокалипсиса и эсхатологии, ничего не желая слышать о ненавистной середине. Густав Шпет[200]запечатлел ситуацию в режущих, как нож, характеристиках: «Запад прошел школу, а мы только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу, что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо схоле у нас асхолия . За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах, любим последние слова, решаем последние вопросы. Будто бы дети, но на школьной скамье, мы — недоросли. Такими родились — наша антиномия — от рождения, вернее, от крещения: крестились и крестимся по-византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем немецкие, пишем книжки без стиля». Результатом этой антиномии стала вопиющая неоднородность — дискретность и дистопия — культурного пространства в оппозиции оторванных друг от друга и обреченных в этой оторванности на дегенерацию «интеллигенции и народа» . Если фокус Петра и удался, то, скорее, как изящно отделанный барочный фасад, скрывающий от глаз абсолютную несогласованность интерьера; дело было даже не в выборочности эксперимента, где культурный вирус прививался в пропорции, скажем, один к тысяче (и даже больше), а в несовместимости, если не противопоказанности почвы; но если уж можно было однажды выстроить столицу на болоте, то что могло помешать выдать трясину за субтропики. Tак, чтобы ответ на вопрос: «Ты знаешь край, где мирт и лавр растут?» не оставлял сомнения: Россия… Притом что несомненным было другое: пушкинское «чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!» С душою и с талантом значит: с сознанием. С таким сознанием, которое чувствует себя как дома в Европе, но никак не может свыкнуться, ужиться с собственным, родным , бессознательным. Нужно представить себе барина, говорящего по-французски с гостями, со слугами же по-русски, да так, что не поймешь, когда на родном, а когда на чужом. Он бездельничает, охотится, играет в буриме или в вист, зевает, влюбляется, ревнует, спит, просыпается, снова спит. Или, в другом раскладе: читает, спорит до хрипоты о смысле жизни, о Боге, обедает, страдает. Это абсолютная тургеневская идиллия: сознание,
разместившееся где-то наверху и проживающее собственные бури в стакане воды. Отчасти и толстовская, где мир (как «мир» и покуда «мир» ) не менее идилличен, хотя и в совершенно отличном от тургеневского мира смысле, потому что, если в последнем спят, чтобы спать, то здесь спят, чтобы пробудиться в смерть. Конец идиллии — «смешной человек», засыпающий в сон, чтобы нарушить его безмятежность и вообще лишиться его. Чего люди Достоевского не знают, да и не умеют, так это спать. Словно бы в подтверждение паскалевской максимы[201]: «Вплоть до скончания мира будет длиться агония Иисуса; не пристало всё это время спать» . Они и не спят, а агонизируют в собственной бессоннице, из которой выуживают не только бредовые фантазии вроде «Сна смешного человека» или «Бобка», но и эпилептические провалы в будущее. Хотя с веранды швейцарского санатория, на которой сидит князь Мышкин, и открывается сказочный вид, но князю совсем не до этого, потому что ему непременно надо плакать: беспричинно и часами, как это и приличествует «идиоту» . Но «идиот» предчувствует что-то такое, о чем и не догадываются призрачные тургеневские герои, ни даже пробудившиеся герои Толстого: возвращение на родину в миге встречи с Рогожиным, своим темным двойником. Стихийный Рогожин — бессознательное Мышкина, оскаливающееся звериной страстью; правда то, что сознание, отрезанное от этого бессознательного, близко к святости, но правда и то, что еще ближе оно к идиотизму. Обратно: святой Мышкин — сознание Рогожина, обретшее тишину и покой. Оба (побратимы) принадлежат друг к другу, как лицевая и оборотная стороны медали, как две половинки одного целого. Без Рогожина сознание Мышкина обречено на идиотизм, но и бессознательное Рогожина обречено без Мышкина на одержимость и неистовство. Это всё та же тема «интеллигенции и народа» , по сути, тема тем истории русской души в непрекращающейся цепи срывов и провалов. Идиотическое сознание интеллигента затопляется народным бессознательным и погружается в мрак безумия, а само бессознательное, расшевеленное идиотически-интеллигентскими лозунгами, вроде: «Мир хижинам, война дворцам», начинает громить усадьбы, сжигать библиотеки, поднимать на вилы вчерашних господ, чтобы, в свою очередь и с другого конца, попасть всё в то же, только жанрово иначе декорированное, безумие.