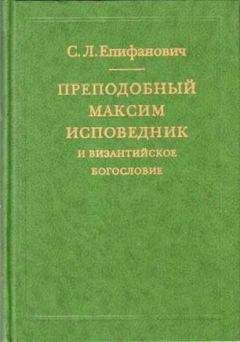Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
Мавропод был из немногих, кто верил, что печенеги действительно могут, несмотря на свою варварскую природу, совершенно переродиться под воздействием крещения. Господствовал противоположный взгляд. Так, уже знакомый нам Пселл в своем панегирике по тому же самому поводу высказывается довольно сдержанно, уподобляя печенегов ветхозаветному племени гаваонитян (II Цар. 21), которым удалось сделаться частью Израиля исключительно благодаря обману. Впрочем, он все же не может не восславить крещение язычников[732]. А вот Михаил Атталиат, описывая обращение печенегов, не считает нужным скрывать свои чувства: «[Они] дали в качестве заложников своих вождей и предводителей и, таким образом разыграв подчинение (δουλωσιν ούτως ύποκρινάμενοι), благодаря этому удостоились снисхождения… Император возымел цель отослать этих вождей, дабы они, может быть, вразумили единоплеменников. Случилось ему удостоить их божественной купели нового рождения и наградить величайшими почестями. Он превратил их в замирителей надвигавшейся войны и вернул назад, отдав каждого его собственному племени. Именно тогда он впервые узнал, что тщетно пытаться отбелить эфиопа (μάτην Αιθίοπα λευκαναί τις επιβάλλεται) и что кормить змею — то же самое, что благодетельствовать злому: ни у одного из них [оказанная им] милость не смогла вызвать благосклонности. Оказавшись среди своего народа, они стали невоздержно заниматься всем тем, к чему их побуждает и подстрекает обычай»[733].
IIКак мы убедились на примере Николая Мистика (см. выше, с. 189), в X в. в новокрещенных землях греки пытались вести себя по возможности гибко. Посмотрим, удалось ли им сохранить верность этому новому принципу в их миссионерской деятельности на Руси. В данном контексте любопытен эпизод с дискуссией, шедшей в окружении князя Владимира, о смертной казни. С языческих времен у руссов существовал обычай виры — денежного возмещения за убийство. В Византии же широко применялась смертная казнь и различные калечащие наказания. Две эти нормы пришли в противоречие. «Реша епископи Володимеру: «Се умножишася разбойници: почто не казниши ихъ?«Он же рече имъ: «Боюся греха“. Они же реша ему: «Ты посгавленъ еси от Бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье. Досгоить ти казнити разбойника, но со испытомъ“. Володимеръ же отвергъ виры, нача казнити разбойникы, и реша епископи и сгарци: «Рать многа; оже вира, то на оружьи и на коних буди“. И рече Володимеръ: «Тако буди“. И живяше Володимеръ по усгроенью отьню и дедню»[734]. Таким образом, греки сначала убеждают князя ввести смертную казнь, но потом, видимо, под воздействием «старцев» присоединяются к просьбе о возврате древнего обыкновения. Независимо от легендарности этого известия[735], оно передает уверенность летописца в том, что и епископы поддаются обстоятельствам. О гибкости греческих клириков на Руси свидетельствует и такой факт: несмотря на некоторые сомнения в святости Бориса и Глеба, которые имелись у византийских иерархов, те не чинили препятствий в их почитании, а первая литургия этим страстотерпцам была написана греческим митрополитом Руси Иоанном I[736].
Для изучения повседневной миссионерской практики полезно обратить внимание на те вопросы, которые задают митрополиту Руси греку Иоанну II[737]. С одной стороны, общий принцип митрополита выражен девизом: «Придерживайся скорее строгости, нежели обычая страны (πρόσκεισο ουν μάλλον τη άκριβεία ή τη συνήθεια της χώρας)», причем сказаны эти суровые слова в обоснование отрицательного ответа на вполне невинный вопрос, можно ли есть мясо убитых зверями животных[738]. Чрезвычайно суров митрополит в традиционном для византийских миссионеров вопросе о многоженстве: во–первых, он заявляет: «ты знаешь, что не отрекшиеся от многоженства являются чужими для веры»[739], а во–вторых, велит отказывать от причащения «тем, которые бесстыдно и не краснея допускают общение с двумя женами — это далеко от нынешнего благочестия и благопристойного ромейского жития (πόρρω γαρ τούτο τής νυν εύσεβείας και της Ρωμαϊκής εύσχήμονος πολιτείας)»[740]. Весьма любопытное признание![741] Благочестие мерится Иоанном по близости к византийскому обычаю. Столь же строг митрополит и в вопросе о браке: на сообщение о том, что лишь князья и бояре справляют христианскую свадьбу, а простые люди «поимають жены своя с плясанием и гуденьемь и плесканьемь», он заявляет: «Иже кроме божесгвенныя церкви и кроме благословенья творять свадьбу, таинопоимание наречеться, иже тако поимаются, якоже блудникомъ епитимию дати»[742].
Все приведенные примеры вроде бы указывают на сугубую строгость митрополита, но с другой стороны, среди его ответов есть два, в которых он выступает сторонником терпимости: во–первых, призывает не казнить и не подвергать калечащим наказаниям чародеев и волхвов[743], а во–вторых, разрешаает священникам «из‑за страшного холода и мороза» поддевать под свое облачение шкуры животных, «будь то съедобных или даже несъедобных»[744]. К вопросу об одеянии священников Иоанн возвращается еще и вторично: описав, как должен выглядеть иерей во время службы, он затем формулирует общее правило: «Если даже обычаи страны (ή της χώρας συνήθεια) подталкивают к тому, чтобы отклониться от этой [формы одежды], все же в церкви и во время церковной службы [следует] одеваться именно так, а вне их пусть наслаждаются местным обычаем (χαιρέτωσαν τω έγχωρίω εθει)»[745]. Конечно, эти уступки местной специфике немногочисленны. Вспомним, однако, что по византийским законам колдовство каралось смертью[746], и оценим хотя бы это проявление терпимости.
IIIПри том что греки, разумеется, принимали участие в христианизации Руси, данных об этом очень мало. Согласно летописным сообщениям, в 1051—1052 гг. «в Куев трие певци приидоша из Грецъ с роды своими»[747]. В позднем византийском «Повествовании о крещении», которое уже цитировалось выше (см. с. 216 ел.), говорится, что «Василий Македонский, который тогда держал ромейский скипетр, с радостью принял людей, посланных оттуда [с Руси], и отправил им архиерея, прославленного всяческим благочестием и добродетелью, а с ним двух мужей, Кирилла и Афанасия, которые также были весьма добродетельны, очень разумны и целомудренны; их отличали познания не только в Божественном Писании, но и в светских науках, как об этом свидетельствуют созданные ими буквы (γράμματα). Придя туда, [эти люди] всех бучили, крестили и привели к христианскому благочестию, идя, что народ сей — совершенно варварский и неотесанный, Названные разумнейшие мужи не знали, как преподать им 4 греческих буквы. Поэтому, чтобы [сей народ] не уклонился бы опять от благочестия, они начертали для них и преподал 35 букв»[748]. Этот фантастический рассказ, смешивающий воедино создание славянской азбуки и крещение Руси, весьма точно передает византийское ощущение, что вообще‑то вар· варов лучше было бы обращать в греческое православие, но те для него слишком грубы. Так же рассуждает о труде Кирилла и Мефодия и Феофилакт Охридский (ср. с. 243).
А что делали, помимо искоренения идолов, реальные греческие иерархи? Пожалуй, единственное свидетельство на этот счет можно найти в Комиссионном списке Новгородской Первой летописи: «Акимъ Корсунянинъ бе въ иепископьсгве лета 42; и бе въ него место ученикъ его Ефремъ, иже нась учаше»[749]. Помимо Киева и Новгорода, кафедры существовали в XI в. в Чернигове, Полоцке, Переяславле, Юрьеве, Ростове, Владимире–Волынском, Турове, а в XII в. также в Смоленске, Галиче, Рязани. Во всех этих городах сидели греки, которые по должности обязаны были заниматься просвещением местного населения, однако это — лишь общее соображение.
В отсутствие прямых свидетельств приходится полагаться на сведения вторичные и отчасти легендарные. Таково Житие миссионера XI в. Леонтия Ростовского[750], созданное спустя длительное время после смерти его героя. Мы имеем дело с литературной фикцией XII в.[751], в которой наличие у ростовской епархии византийских корней заявлялось с целью возвеличить суздальскую церковь в пику киевской[752].
Леонтий был скорее всего первым епископом Ростова[753], рукоположенным в 1073—1076 гг.[754], но в житии утверждается, что он «Царя града рожденья и воспитанья. Русьскыи же и мирьскыии (т. е. мерянский?) язык добре умеяше. Книгам русьским и гречьским велми хитръсловесен сказатель. От уносги оставль мира и бысгь черноризець чюден. За многою его добродетель епископомъ поставлен бысгь Ростову»[755]. Согласно житию, у Леонтия были предшественники, византийцы Феодор и Иларион, которые «досады и гонения не сгерпевъ, бежали во греки пакы»[756]. Видимо, все это является позднейшим вымыслом[757]. Согласно житию, деятельность Леонтия поначалу не увенчалась успехом: он был изгнан язычниками из Ростовского кремля, перебрался на окраину города, выстроил хижину у Брутовщинского потока и поставил там же маленькую церковь в честь Архистратига Михаила. К нему стали приходить дети, он наставлял их и сам кормил потом кутьей. Затем начали приходить и взрослые. Наконец Леонтия опять пригласили в Кремль. Учтя свой предыдущий опыт, он изменил тактику: «Наказающу в церкви, ласкающе младые дети отступите от лести идольския, и покланятися веровати въ Святую Троицю… Старии неверьсгвиемь своимь не внимаху ученью… Се блажены оставль старца, младенца учаше»[758]. Видимо, новый подход принес свои плоды, потому что «усгремишася невернии на святопомазаную главу и хотеще его изгнати и убити. Епископ же нимало не убояся, но укрепляше сущие с нимь презвутеры и дьяконы, глаголя: «Не боитеся, чада, не могут с нами без божия повеления ничего же сотворити“. И облечеся в священные ризы сущие с ним, изиде с кресты противу. И видевше его падоша вси мертви. Но святыи молитвою вся сдравы створи и научи веровати Христов и и крести я в Святую Троицю»[759]. Впрочем, торжество Леонтия было недолгим: он погиб в ходе языческого восстания.