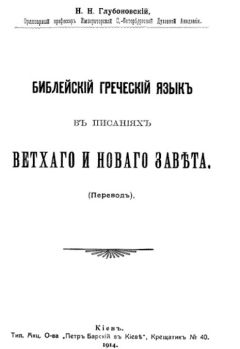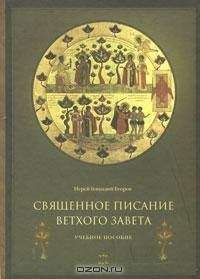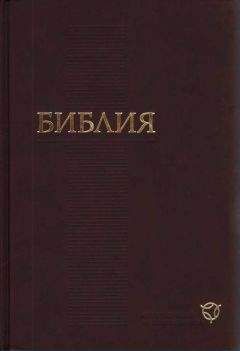Церковь христиан адвентистов седьмого дня - Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД Том 12
Новозаветные писатели не приводят полного списка ветхозаветных прообразов, но показывают герменевтическую процедуру их выявления с помощью ветхозаветных указателей. Кроме того, Иисус и новозаветные писатели, находясь под вдохновением, указывают на те новозаветные события, которым Бог свыше предназначил быть прообразами последующих событий в плане спасения (например, разрушение Иерусалима — прообраз конца света [Мф. 24]).
Все писатели Нового Завета действуют в одних и тех же эсхатологических рамках, описывая природу типологического исполнения. Существуют три измерения эсхатологического исполнения ветхозаветных прообразов: (1) первичное исполнение во Христе при Его первом пришествии; (2) вытекающее из этого духовное исполнение в Церкви на корпоративном и индивидуальном уровне; (3) окончательное славное исполнение при Втором пришествии Христа и после этого. Так, например, Иисус — образ Израиля (Мф. 2:15); Церковь как Тело Христово — также «Израиль Божий» (Гал. 6:16), а апокалиптические 144 000 в конце времени — образ 12 колен Израиля (Откр. 7; 14:1–5; 15:1–4).
То, что можно сказать об исторической (или горизонтальной) типологии, верно и в отношении типологии, имеющей вертикальное измерение, а именно: типологии святилища. Можно выделить три аспекта единого эсхатологического исполнения типологии святилища. Так, Иисус является образом храма (Ин. 1:14; 2:21; Мф. 12:6); Церковь как Тело Его также суть храм Божий, причем как в корпоративном, так и в индивидуальном смысле (1 Кор. 3:16, 17; 2 Кор. 6:16); в Откровении также описывается апокалиптическая «скиния Бога», которая находится с людьми (Откр. 21:3). Однако в типологии святилища имеется дополнительный аспект: небесное святилище существовало до появления земного (Исх. 25:40; Евр. 8:5), и, таким образом, в типологии святилища присутствует вертикальное измерение, пронизывающее историю Ветхого и Нового Завета. Ветхозаветное земное святилище указывало вверх на небесный оригинал, а также вперед, на Христа, на Церковь и на апокалиптический храм.
Не всякой мельчайшей детали прообраза следует придавать значение. Так, в Ветхом Завете есть описание трех разных земных святилищ или храмов (скиния Моисея, храм Соломонов и эсхатологический храм, описанный в Иез. 40–48). Каждый из них имеет свои особенности в использованных строительных материалах, количестве священной утвари, размерах и т. д.), но основные параметры (количество отделений, виды священной утвари, пространственные пропорции, совершаемые в них религиозные обряды и их участники, священные дни и т. д.) одинаковы. Эти общие элементы соотносятся с основными контурами типологии святилища, обобщенными в Евр. 9:1–7.
в. Символика. Символ сам по себе — это не привязанное ко времени изображение истины. Так, агнец символизирует невинность, а рог — силу. Однако в Писании символы часто становятся основными элементами пророчеств и типологических звеньев. Например, агнец во святилище символизирует Христа, Агнца Божьего (Ин. 1:29); четыре рога и небольшой рог в Книге Даниила представляют собой конкретные политические или религиозно–политические власти (см. Библейская апокалиптика И. Д.).
Основные принципы истолкования символов Писания можно почерпнуть из самого Писания, изучая принципы использования в нем символики.
г. Притчи. Одна треть всего учения Иисуса, записанного в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, облечена в форму притчей (всего насчитывается около 40 разных притчей). Мы также находим притчи в Ветхом Завете, например, притчу Нафана о любимой овечке (2 Цар. 12:1–4) или притчу Исайи о винограднике (Ис. 5:1–7). Ветхозаветное слово машал, которое переводится как «притча», в Книге Притчей употребляется в значении «поговорка», «пословица», указывая, таким образом, что за притчами Иисуса стоит высшая Мудрость. Новозаветное слово, которое переводится как «притча» (греч. параболе) этимологически означает «ставить нечто наряду с чем–то другим» с целью сравнения.
Притчи бывают разных видов: пословицы или присказки («врач! исцели Самого Себя» [Лк. 4:23]), метафоры (слово как растение [Мф. 15:13]), образные изречения (притча о вине и мехах [Лк. 5:36–38]), сравнения или уподобления (притча о горчичном зерне [Мк. 4:30–32]), притчи–рассказы (о десяти девах [Мф. 25:1–13]; о добром самарянине [Лк. 10:29–37]) и притчи–аллегории (притча о сеятеле [Мк. 4:1–9, 13–20]). Все виды используемых Иисусом притчей, имеют между собой нечто общее: духовные истины Его Царства иллюстрируются примерами повседневной жизни.
Многие притчи Иисуса имеют лишь одну основную мысль, подчеркиваемую Самим Иисусом или повторяемую авторами Евангелий (Мф. 18:35; 20:16; Лк. 15:7, 10; 16:31). Однако в некоторых притчах излагается несколько мыслей (например, в притче о сеятеле, Мф. 13:1–23). В этих случаях, по–видимому, оправданно искать смысл в отдельных частях рассказа, тем более, что Иисус Сам намекал на присутствие в них более глубокого смысла и указывал правильное истолкование. Это следует отличать от аллегоризации, когда последующий истолкователь придает тексту некий дополнительный смысл, который не вкладывался изначально автором.
Е. Современное применение
1. Вневременной и транскультурный характер Писания
Для Иисуса и новозаветных писателей применение Писания было продиктовано их богословским истолкованием ветхозаветных отрывков или эпизодов.
Библейские писатели настаивают на том, что богословская весть Писания не привязана к какой–то одной культуре, что она применима не только в какую–то определенную эпоху или предназначена какому–то одному конкретному народу, но дана всем людям всех поколений. Петр, цитируя Ис. 40:6–8, убедительно излагает эту истину: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано» (1 Петр. 1:23–25).
Большую часть нравственных наставлений в новозаветных Евангелиях и посланиях можно рассматривать как практическое применение ветхозаветных отрывков: например, в Нагорной проповеди Иисус применяет принципы Декалога; Иаков строит аргументы на Лев. 19; нравственное наставление Петра опирается на ветхозаветный принцип: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Петр. 1:16, цитируется Лев. 11:44,45; 19:2; 20:7).
2. Библейские указатели для определения неизменных истин
Некоторые части Ветхого Завета, в частности, церемониальные, обрядовые гражданские и теократические законы Израиля необязательны для христиан. Однако новозаветные писатели не по своему произволу решают, какие законы остаются в силе, но признают наличие в самом Ветхом Завете критериев, указывающих на то, какие законы обязательны для всех, а какие имеют ограниченное время действия.
Ветхозаветные мишпатим, т. е. гражданские законы, являясь практическим применением принципов Декалога, постоянны в том, что они утверждают, однако их конкретное применение привязано к теократическому правлению. Таким образом, ограничительный фактор присутствует в них самих. Когда теократическое правление закончилось в 34 году нашей эры (во исполнение Дан. 9:24, о чем мы читаем в речи Стефана в Деян. 7, произнесенной во время судебного процесса над ним), эти законы также прекратили свое действие в качестве основы гражданского правления.
Точно так же законы о жертвоприношениях, называемые церемониальными, были частью типологической системы, достигшей своего исполнения в образе Иисуса, Который реально осуществил на Голгофе и осуществляет в небесном святилище то, что было открыто в прообразных обрядах Ветхого Завета. Встроенный в эти законы, ограничительный фактор также был указан в Ветхом Завете (Исх. 25:9, 40 [ср. с Евр. 8:5]; Пс. 39:7–9 [ср. с Евр. 10:1–10]; Дан. 9:27).
В других случаях, когда Бог снисходительно относился к ожесточению сердец израильтян, временно мирясь с рабством и разводами и не запрещая их сразу, Писание ясно указывает на изначальный Божественный идеал (Быт. 1–3). Законодательство Моисея, которое было революционным для своего времени, направляет нас к Едемскому идеалу. В Новом Завете признается и применяется этот герменевтический критерий перманентности, выражаемый словом «сначала» (см. Мф. 19:8).
В некоторых случаях, где остается неясным, выходит ли определенное Божественное повеление за пределы конкретной эпохи и культуры, в Библии даются четкие указатели на универсальность и неизменность данных повелений и уставов. Так, например, закон о чистой и нечистой пище (Лев. 11) необходимо рассматривать в контексте многочисленных лексических, структурных и богословских указателей (присутствующих как в Ветхом, так и в Новом Завете), показывающих, что он является частью универсального, обязательного для всех времен и народов законодательства. Это же можно сказать и о законах, которые объявляются обязательными для язычников в Деян. 15.