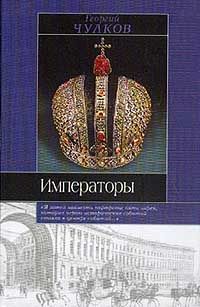Митрополит Георгий (Ходр) - Митрополит Георгий (Ходр) Призыв Духа
Святоотеческая экзегеза Ветхого Завета в основе своей типологична. Отцы Церкви приняли такой подход, потому что Христос — единственный образ Божий. Многое в Библии они рассматривали как образы (типы) Христа или Креста. Так, Климент Римский, комментируя рассказ о блуднице Раав и лазутчиках, говорит, что багряная нить, спущенная блудницей из окна, есть образ пролитой крови Господней. Предание единодушно видит в воздетых руках крест. Византийская иконопись, чтение на всенощных отражают эту экзегезу. В чем же истинный смысл Откровения? Если верно, что Ветхий Завет есть, некоторым образом, икона Нового, то и Новый также есть образ, тип или прототип Ветхого, точно также, как св. Василий Великий смотрел на евхаристические хлеб и вино перед эпиклезисом как на образ плоти и крови Господних. Вот почему я приложил бы к реалиям Нового Завета скорее слово «типы», так как Евангелие уже открывает эсхатон.
Следовательно, типологическая экзегеза Отцов, принятая и литургией, тоже может скрывать исторический смысл Писания. Поэтому, в дополнение к ней, я предлагаю прочтение, которое можно назвать кенотическим. Это выражение происходит из Послания к Филлипийцам, где говорится о самоуничижении Слова — от Бога до человека, от человека до раба, от раба до мертвого тела на кресте. В этом кенозисе — добровольном уничижении — Христос не перестает быть Богом, божественность его природы не исчезает, просто она не проявляет себя. Она становится тайной, и божественное знание в Воплощенном Слове действенно лишь вместе с возрастанием в Нем человеческого начала. Синергия двух природ вдохновляет также Писание, которое есть Тело Христово.
По снисходительности Божией, а также в соответствии с уровнем культуры эпохи, менталитет которой был замутнен, Слово и истина скрываются порою глубоко под словами, под плотяным покровом Писания. Здесь вступает в действие то, что Запад именует личностью или субъективностью священного автора. Православные не признают этой субъективности. С их точки зрения, Иисус Навин есть прообраз Иисуса из Назарета. Он завоевывает не Ханаан, а мир, пораженный грехом, и не предает никого смерти, но принимает смерть на Себя. Все Божеское в Писании обретает человеческую форму а все человеческое носит в себе образ Божий.
В свете этого объяснения я отказываюсь приписывать войны, которые вел Израиль, воле Божией. Могущество Израиля не могло подготовить явление могущества Божия на Кресте. Иначе мы попадаем в плен морали средств, делая смерть орудием жизни и падение народов условием веры, подъема и процветания одного народа, будь то даже народ Божий. Ведь только Крест стал местом победы Божией и источником веры. Все то в Писании, что не согласно с тайной любви, скрывает Слово. По–настоящему звучит Слово лишь в любви, потому что только любовь есть Богоявление.
Ни условиями эпохи, ни идеей постепенного Откровения невозможно оправдать в глазах разгромленных народов ужасы войны, которую вел Иегова. Понятие постепенного Откровения ни в коем случае не может означать что–либо иное, кроме духовного созревания, внутреннего очищения, необходимых для восприятия Божественной красоты. От Бога Исхода, Бога Иисуса Навина, если понимать его как воина, нет никакого перехода к Богу Иисуса Христа. Чудовищный образ не может стать прекрасным.
Мне кажется, что идея о прогрессе в Откровении выросла из гегелевской диалектики. В еврейской мысли нет и следа подобной эволюции. Я не верю в то, что Библия в самом деле есть история спасения. Бог открывает Себя во времени, но Он не создается временем. История не есть создательница мысли Божией. Она представляет собой лишь рамку для Откровения, а затем Воплощения Слова. В ней вера становится доступной разумению. Но она никоим образом не может формулировать веру. Если история есть начало чисто человеческое, то начало Божеское входит в нее, не смешиваясь с ней. Поэтому Писание есть не излияние божественности во время, но тождество явлений Бога на протяжении времени. Единственное различие между Богоявлениями в том, что они не облачены в одинаковое великолепие, но, в силу педагогики или домостроительства любви Божией, в различной мере скрывают себя.
Если все действительно свершилось на Кресте, то окончательная истина Божия есть истина любви. Христос живет в Писании, которое диалектически скрывает и являет Его. Если Он — единственный носитель Откровения, то Он же, в Своей жизни и смерти, есть единственный толкователь Писания, единственная его система отсчета.
Вот почему страдания Ханаана и завоеванных народов–не от Бога. Напротив, Он всегда был на их стороне и никогда не поддерживал войска, поправшие Его имя. Когда Иисус Навин вел евреев в бой, Тот, Кто будет позже носить то же имя, был на стороне жертв, так же как Он был на стороне Исаака, когда Бог потребовал от Авраама принести сына в жертву. Господь открывается не в Своей грозной длани, но именно в слабости тех, кого раздавили войска Бога Саваофа. Под этим именем Израиль разумел собственную державу. Израиль был народом Божиим, но не Телом Господним. Реальность Тела Господня не могла открыться прежде внутри–троического кенозиса, без того самоуничижения, которое из любви совершил Иисус. Нужно было, чтобы в страдании Господь достиг совершенства Своей человеческой природы, чтобы было познано совершенство, чтобы открылась Его истинная природа. Это снисхождение Божие передается нам через таких «миротворцев», как слепцы, калеки и все обездоленные земли. Они — по преимуществу — суть носители дара Божия — непротивления злу.
Только исходя из этой слабости Божией можно понять учение Иисуса и Предания — бывшее до Августина единодушным: о непротивлении злу. Великий соблазнитель, видя кажущееся бессилие Иисуса на кресте, предлагает Ему сойти с креста. Величайшее искушение — верить в то, что мир можно изменить без Бога, что Богу можно навязать человеческие орудия, что в то мгновение, когда Господь вселенной оставляет мир, возвещая тем самым Свою смерть, человек занимает освободившееся место, чтобы возвести на царство справедливость.
Революция и контрреволюция — а обе суть явления Прометеева порядка — исходят из отсутствия Бога как Спасителя. Бердяев был прав, утверждая, что всякая революция есть мерзость; потому что она исходит из иллюзии, согласно которой, изгоняя людей и становясь на их место, утверждая иные принципы правления, она устанавливает справедливость.
Нужно, чтобы изменилось соотношение сил, чтобы вступили в действие новые социальные слои, новая динамика — тогда только творческое дыхание воодушевит бедных и заброшенных людей. Насилие объявляет себя единственным достойным ответом на невидимое насилие, осуществляемое угнетательскими и несправедливыми социальными системами. Существуют тиранические разрушительные общества, основанные на мятеже. Существуют структуры насилия, создающие обстановку, в которой исчезает человечность. Немалая часть человечества доведена до такого отчаяния, что насилия кажется ей единственным выходом. Те, кто, по причине цвета своей кожи, религиозной принадлежности, идеологической нейтральности не имеют права участвовать во власти или осуществлять общественные функции; те, кто лишен избирательного права, права на образование, на питание, на лекарства, на больничный уход, терпят несправедливость, которая сама по себе есть худшее из насилий.
Гражданская война, которая усложняется и возобновляется до бесконечности, идет по роковому кругу и кончается только голодом, показывает всю нелепость насилия.
На какой–то стадии социальной напряженности протест против несправедливости утрачивает смысл. Война, ставшая порядком общественной жизни, уже не позволяет задавать вопрос св. Фомы о бунте против тирана. Здесь налицо та спираль насилия, которую описал о. Элдер Камара как диалектику «несправедливость — бунт — подавление».
Когда все правительства, попав в неконтролируемую, совершенно иррациональную ситуацию, кажется, обречены на бессилие, мы выходим из той области, где применимо простое право. В этих условиях насилие — уже даже не средство. Когда ненависть, подозрительность, коррупция, фанатизм, гнет достигают пароксизма, вопрос выбора между политическим или иным решением становится излишним. Всякая политическая позиция диктуется расчетом, а на известном уровне общественной дезинтеграции всякая политика — политиканство.
Истинная политика мыслима, только если она исходит из внутренней речи. Если в этой внутренней речи мы благоволим к другому, то уже ставим себя по ту сторону средств. Я должен освободиться от замкнутого понятия группы и от привязанности к ней, чтобы обрести способность воспринять чужое лицо, в свете которого я смогу воспринять свое и по–настоящему войти в мир личности. В перспективе, направленной к концу, когда мы уже провидим общение любви, общество перестает быть просто эмпирической действительностью, которая вырастает из мира права и организации экономики. Подходить к вещам с точки зрения действенности — значит скромно пытаться навести в обществе порядок по удобным и временным формулам. Может быть, нам и невозможно ставить себе другую цель, особенно в третьем мире, где все так неустойчиво.