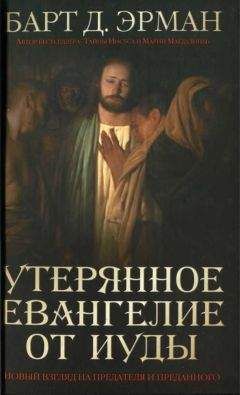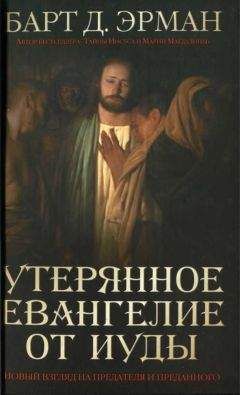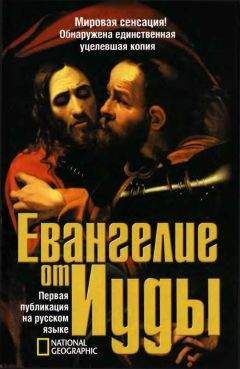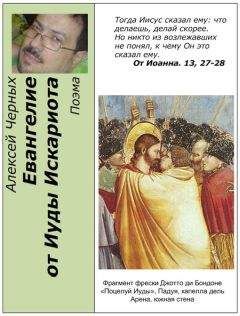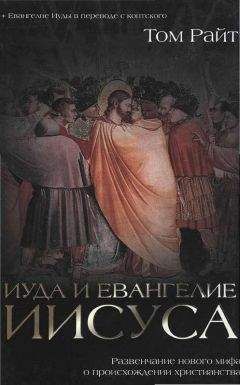Сергий Булгаков - Православие, Очерки учения православной церкви
Лик Христов светит христианской душе, и он указует ей путь жизни. В христианстве и не может быть иного пути, иного «идеала жизни», как стать сообразными Христу, дабы «изобразился в вас Христос» (Гал. 4, 19). Но лик Христов универсален и всеобъемлющ, в нем всякая душа, и по своему, ищет свой собственный лик, и в этом проявляется различие духовных даров. В этом смысле своего пути о каждом человеке или народе можно сказать, что он имеет своего Христа. Католический мир воспринял с наибольшей силой человечество Христа, притом страждущего, распинаемого. Сраспинаться с Ним, сопереживая Его крестную муку, есть едва ли не самое существенное в мистике католичества, с его стигматизацией, молитвенным культом пяти язв и т. д. Конечно, для всего христианства священны страсти Христовы, и все оно склоняется пред крестом. В Православии день великого четверга, чтение двенадцати евангелий о страстях Христовых, есть одна из литургических вершин церковного года, когда церковь тихо плачет, духовно лобызая раны Христовы, и на каждой неделе в среду и пятницу совершаются дневные службы, посвященные кресту. Однако не этот образ Христа распинаемого вошел в душу православного народа и более всего овладел ею, но образ кроткого и смиренного Христа, Агнца Божия, вземлющего грех мира и умалившего Себя до смиренного человеческого образа, пришедшего в мир, чтобы послужить всем, но не Себе принять служение, безропотно приемлющего хулы, поношения и заплевания и на них отвечающего любовию. Путь нищеты духовной, в которой предсодержатся уже все другие «блаженства», более всего открылся пред православною душой. Святость, которой она ищет, (русский народ выразил это свое устремление в своем именовании «святая Русь»), предстала пред ней в образе высочайшего смирения и самоотвержения. Поэтому для православия, особенно русского, так характерны так называемые «Божьи люди», люди не от мира сего, не имеющие «здесь пребывающего града», странники, бездомные, Христа ради юродивые. Это те, которые отказались от своего человеческого ума, приняв образ кажущегося безумия, чтобы вольно терпеть поношения и унижения «Христа ради». Конечно, этим не исчерпывается православная святость, но здесь проявляется то, что в ней есть самое интимное, а вместе и героическое: вся сила религиозной воли и подвига направлена к тому, чтобы совлечься своего естественного образа и облечься во Христа. И этим Божьим людям присуща внешняя беспомощность и беззащитность, как теперь русской Церкви пред своими гонителями. Христос во время страсти Своей, после Гефсимании, уже не творил чудес, и в этой Его человеческой беззащитности, которую не устраняет ни Его Божественная сила, ни легионы ангелов от Отца, лежит печать высочайшего величия: как будто Господь сам на Себе являет здесь исполнение Своих заповедей блаженства и призывает к тому всех скорбящих и обремененных. В этом образе святости есть печать неотмирности, и нет спора, что он может быть восполнен и соединен с работой тоже ради Христа, но в этом мире. Однако неотмирность должна существовать во всяком образе святости как его сокровенное, интимное устремление, как осоляющая соль, ибо без нее все обмирщается: «всего этого ищут и язычники» (Мф. 6, 32), которые не знают, не носят в сердце страждущего, смиренного сердцем и кроткого Христа.
Нельзя отрицать, что православие, не как вселенская Церковь, которою она себя сознает и является, но как восточное христианство сравнительно с западным, имеет лик более неотмирный. Запад практичнее, восток созерцательнее. Восточное христианство сознает как своего первоапостола, возлюбленного ученика Христова, с креста усыновленного Божией Матери, апостола любви. Западное же христианство более запечатлено духом обоих первоверховных апостолов, — Петра (в католичестве) и Павла (в протестантизме). Иоанново христианство стремится прилежать у персей Учителя, тогда как Петрово заботится и о двух мечах и об устроении Церкви. Так обозначились в первообразах апостолов разные пути восточного и западного христианства. С этим связан и созерцательный характер восточного монашества. Последнее не знает того разнообразия и дифференциации монашеской жизни в различных ее орденах, какое свойственно католичеству. Разумеется, принципиально это разнообразие монашеской жизни, в связи с обстоятельствами места и времени, существует и здесь, в пределах одного и того же монашеского типа (или «ордена», хотя в православии вообще неупотребительно это выражение). Однако над всем преобладает одно дело, один труд — молитва. В двойственной формуле, которою определяется характер западного монашества: laborare et orare, в православии члены переставляются в обратном порядке: orare et laborare. Можно сказать, что это приемлемо и для западного монашества, однако остается различие между деятельным и созерцательным христианством. Последнее на западе свойственно только отдельным орденам, а на востоке является общим. Монашество здесь является «принятием ангельского образа», т. е. уходом из мира и служением ему молитвою и подвигом, но не воинствованием в мире ad majorem Dei gloriam. Конечно, дело Марфы и Марии, двух сестер, одинаково возлюбленных Господом, не может быть совершенно разделено и тем более противопоставлено, но все же остается это различие в оттенках. Вполне возможно, что и православие обернется лицом к миру в большей мере, нежели оно это делало, к этому зовет его церковная история. Но останется его духовный тип.
Православие имеет видение умной красоты, к которой душа ищет путей приближения.[37] Это есть небесное царство идей, которое в язычестве созерцал еще Платон, — образы ангельского мира, духовное «небо» (Быт. 1, 1), которое смотрится в земные воды. Это есть идеал не столько религиозно-этический, сколько религиозно-эстетический, который лежит уже по ту сторону добра и зла в их разделении. Это есть тот свет, который светит на пути земных странников. Он зовет за пределы теперешней жизни к ее преображению.
ЭТИКА В ПРАВОСЛАВИИ
Само собою разумеется, православие не знает автономной этики, которая представляет преимущественную область и своеобразный духовный дар протестантизма. Этика для православия религиозна, она есть образ спасения души, указуемый религиозно-аскетически. Религиозно-этический максимум здесь достигается, поэтому, в идеале монашеском, как совершенном следовании Христу в несении креста своего и самоотречения. Высшие добродетели для монашества суть достигаемое чрез отсечение своей воли смирение и хранение чистоты сердца. Обеты безбрачия и нестяжания являются только средством для этой цели, хотя и не для всех обязательным, как обязательна самая цель. Православие не имеет разных масштабов морали, но употребляет один и тот же масштаб в применении к разным положениям в жизни. Оно не знает и разной морали, мирской и монашеской, различие существует лишь в степени, в количестве, а не в качестве. Можно в этом прямолинейном максимализме монашеского идеала видеть нежизненность и мироотреченность православной морали, которая оказывается безответна пред вопросами практической жизни в ее многообразии. Поэтому может казаться, что преимущество оказывается здесь на стороне гибкого и практичного католицизма с его двумя моралями, для совершенных и несовершенных (заповеди и советы), так же как и протестантизма с его мирской этикой повседневной честности. Нельзя отрицать, что всякий максимализм труднее минимализма, и в своих неудачах и искажениях может вести к худшим последствиям. Однако негибка и максималистична сама истина, которая терпит неполноту своего осуществления, но не мирится с умалением и полуистинами. Христианский путь есть путь узкий, и нельзя его расширять. Поэтому в основных принципах не может быть сделок или уступок в сторону приспособления. Однако упрек в мироотреченности православия должен быть отстранен. Он может бить применяем, самое большее, к одному лишь из исторических ликов православия, определившемуся под односторонним и чрезмерным влиянием восточного монашества с дуалистическим и псевдоэсхатологическим пессимизмом в отношении к миру. Но оно совершенно не может быть применимо ко всему православию, которое полно света Преображения и Воскресения. Православие может быть определено с этической стороны как душевное здоровье и равновесие, для которого, при всей трагической серьезности, свойственной «царству не от мира сего» остается место и для оптимистического, жизнерадостного отношения к жизни и в пределах земного существования. Монашествование есть не единственный и, во всяком случае, далеко не всегда труднейший образ делания заповедей Христовых, я это становится очевидным, если мы остановим внимание на составе святых, прославляемых Церковию: здесь мы имеем, наряду с героями монашеского аскетизма, и мирских деятелей — благочестивых воинов, царей и князей, благочестивых жен и матерей, и Это есть прямое свидетельство известной равноценности разных путей. Каждый должен быть монахом или аскетом в сердце своем. И если можно говорить о монашествовании, как о необходимом для всякого христианина, то это относится лишь ко внутреннему самоотречению ради Христа, которого надо возлюбить больше всего в мире и больше своей собственной жизни. Этим отвергается языческое погружение в мир, безраздельное и безграничное, и установляется необходимость аскетического ему противоборства, при котором имущие должны быть, по слову ап. Павла, как неимущие. Это есть хождение пред Богом, прохождение своего пути жизни с мыслью о Боге, с ответственностью пред Ним, в непрестанной поверке своей совести. Работа над внутренним человеком называется иногда в православной аскетике «духовным художеством», т. е. приравнивается к искусству. Любовь ко Христу является внутренним солнцем жизни, к которому она поворачивается во всех своих проявлениях. И этим установляется особый образ аскетического приятия этого мира и его жизни, аскетического труда и творчества в нем. Не осуждаются и не упраздняются никакие области жизни, как таковые: «каждый должен оставаться в том звании, в каком он призван» (Кор. 7, 20), научал ап. Павел, и, однако, во всем быть христианином. Чрез это внутреннее духовное делание создается мир христианских ценностей в государстве, в хозяйстве, в культуре, возникает то, что называется духом жизни. Православие являло силу свою в воспитании народов востока, — Византии, России, славянских народностей с их своеобразною историей, и оно, конечно, не исчерпало эти свои силы и стоит теперь пред новыми задачами (о чем ниже).