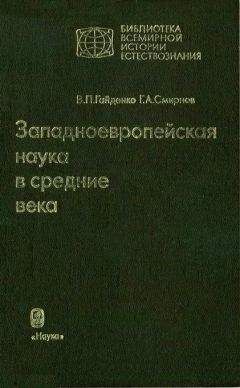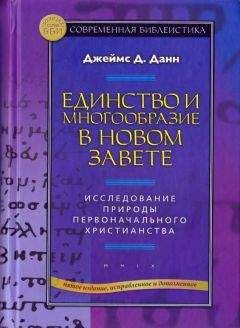Жозе Сарамаго - Евангелие от Иисуса
Книжник медленно поднял голову, взглянул на него, как человек, только очнувшийся от глубокого сна, и после долгого, нестерпимо долгого молчания ответил: Вина – это волк, который, пожрав отца, терзает сына. И волк этот пожрал моего отца? Да, а теперь примется за тебя, А тебя-то терзали, пожирали? Не только терзали, не только пожирали, но и извергали, как блевотину.
Иисус поднялся и вышел. У дверей помедлил, задержался, поглядел назад. Дым от жертвенников отвесным столбом поднимался прямо к небесам и там, в вышине, истаивал и исчезал, словно его втягивали в себя исполинские легкие Бога. Утро близилось к полудню, толпа росла, а внутри, в одном из храмовых покоев, ощущая безмерную пустоту, человек с разодранной в клочья душой сидел и ждал, когда нарастет на прежние кости обычное мясо, когда вернется он в свою шкуру, чтобы суметь через час или сутки спокойно и достойно отвечать тем, кто пожелает узнать, например, из какой соли – каменной или морской – состоял столп, в который обратилась жена Лота, или каким вином, белым или красным, упился Ной. Уже выйдя из Храма, Иисус спросил дорогу на Вифлеем, вторую цель своего путешествия, дважды заплутал, свернув не туда, в невообразимой толчее, бурлившей в хитросплетении улочек и переулков, и наконец нашел тот путь, по которому тринадцать лет назад пронесла его, уже стучавшегося в этот мир, Мария во чреве своем. Не стоит предполагать, однако, что он думал именно так, тем более что очевидность и непреложность всегда подрезают крылья вдохновению, и в доказательство приведу один лишь пример: пусть читатель этого евангелия взглянет на портрет своей матери, сделанный в ту пору, когда она его носила под сердцем, и признается честно, способен ли он представить себя у нее в утробе. Иисус между тем шагает в Вифлеем, размышляя об ответах, даваемых книжником, на вопросы – и его, и те, что заданы были раньше, – и ему не дает покоя и смущает душу ощущение того, что все вопросы сводились в конечном счете к одному-единственному, а ответ на каждый годился для любого, особенно же – заключительные и все заключающие в себе слова книжника о том, что волк вины не насытится никогда и вечно будет грызть, пожирать и изблевывать. Зачастую по причине слабости нашей памяти мы сами не знаем – а если знаем, то словно бы стремимся забыть поскорее – причину, мотив, самый корень нашей вины или, выражаясь фигурально, в стиле храмового книжника, – то логово, откуда выходит волк, алчущий добычи. Но Иисус знает, где оно, это логово, он туда как раз и направляется. Он понятия не имеет, что будет там делать, но словно бы хочет объявить всем и каждому: Вот он я, – и спросить вышедшего ему навстречу: Чего ты хочешь? Покарать? Простить? Забыть? Так же, как в свое время родители его, он остановился у гробницы Рахили, помолился и двинулся дальше, чувствуя, что сердце колотится все сильнее. Вот первые домики Вифлеема, куда в еженощных снах его врываются посланные Иродом воины и с ними – его отец, но, по правде говоря, даже не верится, что такие ужасы могли твориться под этим небом, по которому проплывают облачка столь тихие, столь белые, будто сам Господь выказывает им свое благорасположение; на этой земле, нежащейся на солнце, так что невольно хочется сказать: «Ах, да забудем все это, не будем выкапывать кости прошлого», и, прежде чем женщина с ребенком на руках появится у ворот одного из домов и спросит: «Кого ты ищешь?» – повернуть назад, сделать так, чтоб простыли следы, которые привели нас сюда, да уповать на то, что неостановимый ход времени скоро припорошит густой пылью и последнюю память о тех событиях. Поздно, слишком поздно. Еще мгновение назад мошка могла бы спастись, метнуться прочь, но если коснулась она хоть самым краешком клейкой нити, то, как ни бейся, как ни маши ставшими бесполезными крылышками, ничто уже не поможет, и чем яростней будешь метаться, стремясь высвободиться, тем больше будешь запутываться в паутине, пока наконец не выбьешься из сил и не поймешь в смертельном оцепенении, что спасения нет и пощады не будет, даже если паук побрезгует столь ничтожной добычей. И для Иисуса мгновение, когда он еще мог спастись, минуло. Посреди городской площади, под раскидистой смоковницей, стоит нечто невысокое, кубической формы, и не надо с особой пристальностью вглядываться в нее, чтобы понять: это гробница. Иисус приблизился, медленно обошел ее кругом, остановился, читая полустершиеся надписи на одной из граней, и, свершив все эти действия, понял, что нашел то, что искал. Пересекавшая площадь женщина, ведя за ручку ребенка лет пяти, замедлила шаги, с любопытством воззрилась на чужака и спросила: Ты откуда? – добавив, как бы в оправдание своего любопытства: Вижу, не местный. Я из Назарета Галилейского. У тебя здесь что, родня? Нет, я был в Иерусалиме и решил заодно взглянуть на Вифлеем. Так ты, значит, просто мимо шел? Да, к вечеру, когда зной спадет, вернусь в Иерусалим. Женщина подняла ребенка на руки и, произнеся: Господь да пребудет с тобою, – собиралась уж было идти своей дорогой, но Иисус удержал ее, спросив: А кто тут похоронен? Женщина покрепче прижала ребенка к себе, словно защищая от опасности, и ответила: Двадцать пять маленьких мальчиков, убитых много лет назад. Сколько? Я ж говорю, двадцать пять. Лет сколько? А-а, уж четырнадцатый пошел. Действительно много. Столько же примерно, сколько тебе на вид. Я про тех, кого тут убили. Один из них был мой брат. Твой брат тоже лежит здесь? Да. А это на руках у тебя сын? Да, первенец. А за что же убили этих мальчиков? Не знаю, мне в ту пору было семь лет.
Но ты наверняка слышала об этом от родителей или еще от кого-нибудь из взрослых. Да что там «слышала», я своими глазами видела, как убивали. И брата твоего тоже? И брата моего тоже. Кто же это сделал? Пришли воины царя Ирода, схватили и поубивали всех мальчиков до двух лет. И неизвестно за что? До сих пор неизвестно. А когда Ирод умер, отчего же вы не пошли в Храм, не попросили священников узнать? Не умею тебе сказать. Я бы еще понял, будь это римляне, но должна же быть какая-то причина, чтобы царь посылал войско убивать собственных своих подданных, да притом еще малолетних. Нам не дано постичь царской воли, спаси и сохрани тебя Господь. Мне-то ведь уж не два года. В смертный час каждому два года, промолвила женщина и двинулась своей дорогой. Иисус, оставшись один, опустился на колени у могильного камня, закрывавшего гробницу, достал из котомки остатки уже зачерствевшего хлеба, раскрошил его у входа, точно влагая в невидимые рты невинно убиенных младенцев. В этот миг из-за ближайшего угла вышла женщина, но другая – совсем уже старая, сгорбленная, опиравшаяся на клюку и полуслепая. Но все же слабыми своими глазами она заметила, что делает незнакомый отрок, остановилась, вглядываясь, а Иисус поднялся, склонил голову, словно моля даровать душам несчастных этих мальчиков покой, и, хоть привычно было бы употребить здесь слово «вечный», мы этого не сделаем, ибо, когда однажды попытались представить себе, что же это такое – покой, который будет длиться целую вечность, – воображение отказало нам. Иисус, окончив молитву, стал озираться по сторонам, увидел слепые стены, затворенные двери и – остановившуюся поодаль древнюю старуху в одежде невольницы, старуху, которая, опираясь на клюку, являла собой наглядный ответ на третью часть знаменитой загадки: «Какой зверь ходит утром на четырех ногах, днем – на двух, а вечером – на трех?», некогда загаданной сфинксом премудрому Эдипу, который ответил:
«Человек», не подумав или не вспомнив о том, что далеко не всякий человек доходит до полудня жизни и в одном лишь Вифлееме число таких людей составило двадцать пять. А старуха бредет, ковыляет, подходит все ближе, и вот уж оказалась вплотную к Иисусу, вытянула шею, чтобы получше разглядеть его, спрашивает:
Ищешь кого? Тот ответил не сразу, ибо истина состояла в том, что искал он и нашел уже не «кого», а «что», лежащее в двух шагах, да и раньше-то с натяжкой подпадавшее под понятие «люди» – так, мелочь, сосунки да сопляки в перепачканных пеленках, – а потом вдруг нагрянула смерть и превратила их в исполинов, которым ни один гроб не по росту, любой склеп тесен и которые, если есть на свете правда, каждую ночь возвращаются в мир, показывают свои смертельные раны – отворенные клинками мечей двери, через которые вышли они в небытие. Нет, ответил Иисус, никого я не ищу. Но старуха не ушла, а словно бы ждала, не скажет ли он еще что-нибудь, и от этого ожидания слова, о которых он и не думал, сами собой сорвались с его уст: Я родился здесь, за городом, в пещере, вот и пришел взглянуть. Старуха отступила на шаг, давшийся ей нелегко, вперила в него пристальный, насколько ей по силам это было, взгляд и дрогнувшим голосом сказала:
Ты, как тебя зовут, откуда идешь, кто твои родители?
На вопросы, заданные рабыней, отвечать необязательно, но уважение к преклонным летам женщины, пусть даже и столь низкого звания, видно, было у него в крови: старикам, кто бы они ни были, отвечать следует всегда, ибо, принимая в расчет то, как мало времени отпущено им на их вопросы, мы поступим крайне жестоко, оставив вопросы эти висеть в воздухе, тем более что, может статься, мы одного из них только и ждали. Меня зовут Иисус, я из Назарета Галилейского, отвечал он, и ничего другого с тех пор, как ступил он за порог отчего дома, не произносил еще. Старуха шагнула вперед, вернувшись на прежнее место: Кто родители твои, как их зовут? Отца – Иосиф, мать – Мария. Который тебе год? Четырнадцатый. Старуха посмотрела по сторонам, словно ища, куда бы присесть, но площадь в Вифлееме Иудейском – это вам не парк Сан-Педро-де-Алкантара, где такие удобные скамейки и такой чудесный вид на замок, здесь садятся прямо на землю, в пыль, в лучшем случае – на приступочку у двери, или, если пришли на могилу, – на камень, специально положенный для того, чтобы могли отдохнуть и перевести дух живые, пришедшие поплакать над дорогими сердцу усопшими, или, как знать, для того, чтобы восставшие из могил тени могли пролить слезы, не выплаканные при жизни, как в случае с Рахилью, чья гробница совсем неподалеку, и истинно было сказано: «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет», и не надо обладать мудростью Эдипа, чтобы увидеть – место соответствует обстоятельствам, а плач – причине, вызвавшей его.