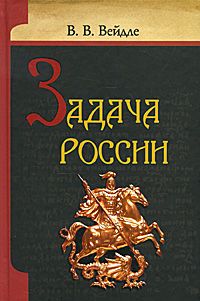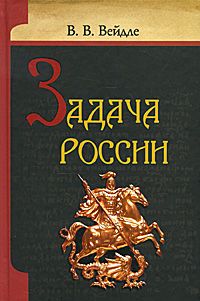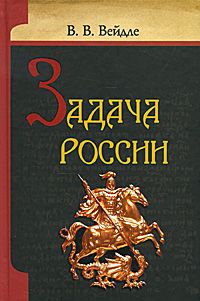В. Вейдле - Эмбриология поэзии
Как в апреле тебя разубрали —
У забитой калитки я жду,
Позвонить к сторожам не пора ли?
Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно — невозможно.
«Не познав», но вслушиваясь в звучание этого слова, поэт уже любил «эти в бархат ушедшие звуки» — не самые звуки, конечно, независимо от смысла, а то, как в них сосредотачивался, гнездился, как выражался ими этот смысл. «Этих ее, этих зе, этих эм…» Трезво рассуждая, первое, что придется тут сказать это, что звуки эти, — среди которых эн отсутствует, — принадлежат ровно в той же мере слову «возможно», в котором ничего ни печального, ни нежного, ни тревожного нет. Но это как раз того рода трезвые рассуждения, которые надлежит, рассуждая о поэзии, с самой трезвой решительностью отвергнуть. О слове «возможно» поэт не думал. Оно было полностью выключено из его сознания в тот миг, когда его мысли и чувства сосредоточились на смысле слова «невозможно» и силою этих чувств как бы включили в этот смысл его звучание — эти ее, эти зе, эти эм; как бы вывели этот смысл из этих звуков. В строчках, соседних с этой центральной строчкой, те же звуки повторяются несколько раз (вгнце, забвенья, дуновенья; хризантем, угрозой, забвенье, различить, запомнив; мерцанья, могил, сумрак, белом, сумел, запомнив). Этим утверждается связь между ними и смыслом главного слова, которая в языке предуказана не была, которая была создана, «выслушана» из него поэтом.
Тут нет ни звукоподражания, ни метафорической звуковой изобразительности, но это и не простая игра звуков, независимая от смысла. «Эти ее, эти зе, эти эм» внутри слова не повторяются, но оно их как бы излучает, — откуда и проистекают повторы этих звуков в соседних словах. К лучшим созданиям Анненского это стихотворение не принадлежит; в самых незабываемых искусственностей этих и красивостей меньше или нет их вовсе; но это все же законное его дитя. Из подлинного лирического созерцания оно родилось, нашедшего средоточие в звукосмысле слова «невозможно» (которое поэт и сделал его заглавием). Не думаю, чтобы он повторы главных его звуков нарочито подбирал; скорей излучились они сами собой из его услышанного звука, смыслозвука, сами собой подкрепили его, как Гюго свою «цитадель», только не звуками, родственными смыслу звучащего слова, но отсутствующими в нем, а его собственными звуками. Возможно в поэтической речи и то, и другое. Возможно услышать в звучащем, в произносимом нами (пусть и молча) слове, как это сделал Ките, нечто его значению совершенно чуждое, но не чуждое смыслу той речи, куда поэт его включил, и, повторив его, дал ему этот смысл. Есть много игр. Самовнушения? Пусть. Но без них, где ж тогда поэзия?
Как только слова (почти какие угодно) начинают «звучать» — раскрывая свой смысл в звуке, какой он ни на есть, или в особых качествах этого звука — прежняя их обыкновенная знаковость, если не исчезает (это, как уже сказано, случается редко), то бледнеет, затушевывается смыслом. Этому многие не поверят; скажут: у раннего Блока, у Фета, у Верлена, может быть, но Пушкин… Они не отличают смысла от значения. Верно лишь то, что Пушкин значений не разрушает, а в смыслы превращает их так, что мы едва замечаем превращение. Всё те же это старые наши знакомцы: «вес», «бес», «лес»…
Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский!
Достаточно было поставить слово это в рифму: мы узнали его вес, и узнали что такое «вес», то есть смысл слова «вес». Или:
Я мелким бесом извивался
Развеселить тебя старался
говорит бес (Мефистофель) и звуками подтверждает звук этого слова (всеми е — весе — всеми с этих двух стихов), так что мы смысл слышим в этом звуке. Или: «И лес неведомый лучам». Для значения этого слова не все ли равно, к трем ли этим звукам оно прицеплено, или к четырем другим, как по- немецки или по–французски; а здесь, или в чудесных строчках Баратынского — И весел лес своей младой одеждой («На посев леса»), где звуки развеселили не значение, а смысл; и не менее выразительно: — И лес подъемлет говор шумный («Осень»), где звуковой контраст по–иному оттеняет смысл, — как же тут заменишь это к смыслу относящееся звучанье, которое значения не устраняет, предполагает его незыблемым — речь ведь идет о лесе, о «самом настоящем» лесе; но звучащими и выражающими словами речь эта ведется; другими нельзя было бы ее вести. Покуда поэзия о чем‑то повествует, что‑то во внешнем мире, среди «вещей» находящееся «имеет в виду», она без словесных значений и с их помощью значащих предложений, конечно, не может обойтись. Но предпочитать значениям смыслы и обозначению выражение, заменять вещи смыслами, включающими в себя и вещи, это во всех ее разновидностях неотъемлемое ее свойство, этого мы все от нее ждем и отнять у нее это, ее не уничтожив, невозможно.
Пушкин никогда не был склонен значениями пренебрегать; но есть и у него примеры такого смещения их, при котором обыкновенная, рассудочная и необходимая — вне поэзии — функция их становится несколько неясной. В его терцинах 1830 года «В начале жизни школу помню я» упомянуты два изваяния: «Дельфийский идол» (Аполлон) и —
Другой женообразный сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон —лживый и прекрасный.
Вслушаемся в эти три стиха, в два первых особенно. Сперва два длинных, немножко родственных одно другому по смыслу, как и по звуку слова, с ударением на одинаково звучащем слоге ра, согласная которого подкреплена (или предсказана) первым словом этого стиха. Затем, во втором стихе снова два прилагательных, к тому же определяемому ими слову относящихся, опять‑таки с одинаковой ударной гласной и, и точно так же подкрепленной хоть и неударным, но ясно слышимым и следующего слова (а также чуть–чуть и соединяющего их союза: сомнительный и лжг/вый идеа_л). В третьей строчке повторяется это и, в результате повтора самого прилагательного «лживый», и оба прилагательных первого стиха находят себе отзвук в новом прилагательном «прекрасный». «Женообразный», «сладострастный», «сомнительный» и «лживый» тем самым теряют свои точно очерченные значения и приобретают общий, более настойчивый, чем определенный смысл, в совершенстве выраженный, но который четко формулировать, — что и вполне естественно, раз это не значение, а смысл — было бы затруднительно; скажем проще: невозможно.
Нормальное, то есть внепоэтическое значение этих четырех слов не просто подчинено их выраженному звуком смыслу; Пушкин этим значением (что у него редко) даже отчасти и пожертвовал. Не то, чтобы оно исчезло: смысл со значением связан, не может совсем без него обойтись; но точное разграничение сомнительности и лживости, сладострастия и женскости, да и разграничение этих двух смысловых двоиц друг от друга стало и в самом деле неуловимо. В прозе Пушкин едва ли назвал бы «идеал» (как и что‑либо другое) «сомнительным» и «лживым» одновременно. Это или противоречие, или плеоназм. Едва ли назвал бы его и «женообразным». Что ж — рассудок вопрошает— «волшебный демон» этот— богиня Афродита? Или женоподобный бог (Дионис), или быть может Ганимед, Нарцисс, Гермафродит? «Женообразный» больше у Пушкина не встречается; «женоподобный» — один только раз, в точном смысле подобия, а не естества. На этом основании, следует, вероятно, как это обычно и делается, выбрать Венеру, дьяволицей объявить одного из двух бесов. Строгой необходимости в этом, однако, нет. Я с покон веку был склонен голосовать на этих выборах за Диониса. Вопрос едва ли будет окончательно решен. Для понимания пушкинского замысла он значение имеет, — но не для анализа его поэтической речи в этой терцине, и не для понимания того, что такое поэтическая речь. «Другой, женообразный, сладострастный…» Как это звучит! Звуками звучит, но и смыслом. Более глубоким, пожалуй, смыслом, чем если бы значение этих трех строчек было для рассудка нашего вполне прозрачным. Кто знает? Быть может, почувствовав это, Пушкин и решил обойтись в этом случае, без неукоснительной ясности значений. Дельфийский идол не нашел бы оснований прекословить этому решению.
4. Осмысление звуков
В системе языка, его отдельные звуки (фонемы), как правило, ничего не значат: они не знаки, а лишь элементы, образующие знак. В языке ставшем речью они точно так же никаким самостоятельным смыслом, пусть и самым расплывчатым, не обладают. Порознь осмысляются и знаковую функцию приобретают они (это не обязательное последствие осмысления) лишь в тех сравнительно редких случаях, когда система пользуется ими по–другому, как русская, например, гласными (четырьмя) или согласными с, к, в («с ним», «к нему», «в нем»), превращая их в слова. Порою в полноценные, «именующие», как для французов звук о именует воду; но куда чаще в слова двух взаимно противоположных категорий: союзы, предлоги (т. е. вспомогательные, синтаксические слова, значки отношений) и междометия (в нашем языке «о!» и более редкие «у!», «и!», а также «шш!»), знаковая функция которых неотчетлива, вследствие чего они непрочно включаются в систему и легко переходят в непредусмотренный ею и осмысляемый независимо от нее речевой жест («у–у-у!» или «ууу…» вместо «у!», «шшшш…» вместо «шш!»).