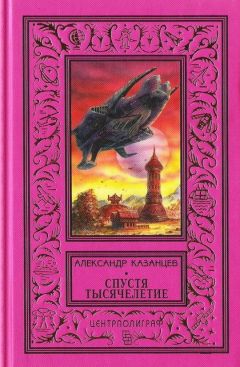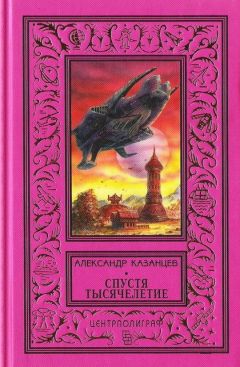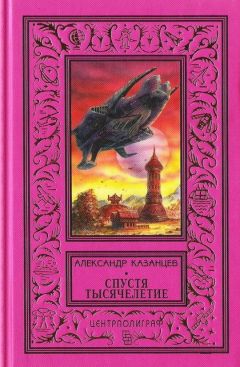Сергей Аверинцев - Византия и Русь: два типа духовности
Было бы нестерпимо плоским понять это как выражение племенной мании величия; в том-то и дело, что ровно ни о чем племенном здесь речи, по существу, нет. Но тогда что это такое? Потребность приблизить к себе священных персонажей и священные события? Едва ли. Такое желание несравнимо характернее для западного христианства, по крайней мере начиная с позднего Средневековья[11]; напротив, русский человек, как правило, находит фамильярную короткость с сакральным кощунственной и предпочитает строгий пафос дистанции. Ни один русский святой не стал бы устраивать рождественские ясли, как сделал Франциск Ассизский в Греччо, создав на века употребительнейший обычай всех католических народов. Вот еще примеры для нашего размышления. Суммируя в своевольном контексте предромантизма опыт протестантской сектантской духовности, Уильям Блейк выразил в стихах намерение выстроить Иерусалим «на зеленой и сладостной земле Англии»[12]. Впрочем, и католическое Средневековье знало Иерусалимы — храмы, выстроенные по образцу расположения иерусалимских святынь (таково, например, болонское аббатство Санто-Стефано с его многочисленными капеллами). Но когда Патриарх Никон захотел выстроить на Руси новый Иерусалим, его порицатели усмотрели в этом бесчестие святыне: «Хорошо ли, что имя Св. Града так перенесено, иному месту дано и опозорено?» Через столетие после Блейка другой английский поэт, католик Френсис Томпсон, сказал о Христе, «шествующем по водам не Геннисаретского озера — но Темзы». Такое упоминание Темзы наводит по контрасту на мысль, что хотя в качестве места действия русских духовных стихов неоднократно названа Святая Русь, упомянуть в них какую-нибудь русскую реку решительно невозможно. Русских рек там нет, вот Иордан — есть. (Тот же Патриарх Никон переименовал реку Истру в Иордан; не говоря уж о том, что с русской точки зрения это, как мы видели, опасная дерзость, даже здесь нет приближения Иордана, а уж скорее сакрализация и тем самым отдаление, отчуждение Истры.)
Нужно было дожить до XIX века, то есть до культуры, имеющей совсем иные основания, чтобы Тютчев увидел Святую Русь, ту самую, которую в рабском виде исходил Царь Небесный, как действительно русский ландшафт, как Россию, идентифицируемую географически, этнографически: «Эти бедные селенья, эта скудная природа…» Ландшафт Святой Руси старых духовных стихов иной; когда на этой Руси строят «сионскую» (1) церковь, для постройки берут, правда, березу и рябину, деревья самые что ни на есть русские, но прежде всего, на первом месте — южный, средиземноморский, цареградско-иерусалимский кипарис, знакомый обычно русскому человеку не по своему виду как дерево, а по запаху занесенных паломниками крестиков. Вот так — березы и рябины есть, но преобладают все- таки кипарисы; романтическое воображение напрасно искало бы местного колорита. У Святой Руси нет локальных признаков. У нее только два признака: первый — быть в некотором смысле всем миром, вмещающим даже рай; второй — быть миром под знаком истинной веры. В знаменитом «Стихе о Голубиной книге» единственное основание прерогатив Белого, то есть нашего, царя — что это царь христианский; но так как получается, что других христианских государей в целом свете нет, его прерогативы необычайно вырастают:
У нас Белый царь над царями царь.
Почему Белый царь над царями царь?
Он принял, царь, веру хрещеную,
Хрещеную, православную.
Он и верует единой Троице…
При желании можно, конечно, усмотреть здесь возврат очень древних архетипических представлений, приравнивавших свою землю к земле людей вообще (на языке скандинавской мифологии — Мидгард, в противоположность хаотическому Ут-гарду). Но беда в том, что, поскольку архетипы принадлежат сфере, во-первых, более или менее общечеловеческой, то есть безразличной к характерному, во-вторых, принципиально доисторической и еще более принципиально внеисторической, апеллируя к ним, невозможно не только объяснять, но даже описывать феномен национальной психологии, даже подступаться к этому феномену, насквозь характерному, насквозь историческому.
Важно, что учителями русских в вопросах веры были не католики, для которых решающим был опыт выживания церковных структур в условиях отсутствия или бездействия структур государственных, но православные византийцы, как раз ради утверждения своего авторитета как учителей настаивавшие на полной неразделимости Церкви и царства. В этом отношении характерно увещание Патриарха Константинопольского Антония IV к великому князю Московскому Василию I, дерзнувшему заявить, что русские имеют Церковь (общую с византийцами), но не имеют царя (то есть византийский император, пока что единственный православный царь, не является для них царем). «Невозможно для христиан иметь Церковь и не иметь Царства, — отвечал патриарх. — Ибо Церковь и Царство пребывают в великом единении, и невозможно для них быть разделенными». Исторически красноречиво, во-первых, то, что это слова духовного главы к светскому властителю; во-вторых, то, что это слова византийца, чьему царству тогда, в 1390-е годы, было отмерено чуть больше полувека, к великому князю Московскому, чьи потомки вскоре после конца ромейского царства положат основание Русскому царству. Уж если цареградский патриарх так авторитетно объясняет московскому государю, что православное Царство — необходимый коррелят и как бы полная реализация православной Церкви, можно ли не принять такой урок к сердцу, и притом на века?
Важно, далее, что подъем Москвы так точно совпал хронологически с падением Константинополя. В 1453 году турки входят в столицу на Босфоре, в 1461-м они овладевают Трапезундом — последним обломком ромейской державы; но в 1478 году Москва присоединяет земли Великого Новгорода, в 1480 году — окончательно уничтожает татарское господство. Вообще говоря, идея третьего, славянского Рима как альтернативы Константинополю, известная всем из посланий псковского старца Филофея («…яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти…»), не была новой, она развивалась ранее в южнославянской публицистике. Византийский хронист, упоминая гибель Западной империи в 476 году, резюмировал: «Итак, все это случилось со старейшим Римом — но наш Рим цветет, возрастает, властвует и юнеет», однако в болгарском переводе, выполненном в XIV веке, эти слова знаменательно заменены: «…и сиа убо приключишася старому Риму, нашь же новий Цариград доить и растить, крепится и омлаждается». Новый Цареград — это, судя по всему, Тырново, столица Болгарского царства; соответственно, на место обращения византийского хрониста к византийскому императору подставлено обращение к болгарскому царю Иоанну Александру, «великому владыке и изрядному победоносцу». Логическая структура очень устойчива[13]. Рим пал, но мы стоим, и мы — Рим; в этом пункте совершенно едины все — и византийский хронист, и его болгарский переводчик, и наш старец Филофей.
Но дальше начинается различие исторической судьбы. Южнославянские царства поднимались тогда, когда Константинополь еще стоял, и они принуждены были спорить с ним за владение единой и единственной православной державой, вступая в неблагообразную ситуацию спора, а под власть турок они попали даже чуть ранее конца Византии, в последние десятилетия XIV века. Напротив, Московское царство, едва явившись на свет, сразу оказалось без всякого спора единственным в мире православным государством и вне досягаемости для сил ислама. Оригинальными были не сами по себе слова Филофея: «…вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царство нашего государя». Новым было стечение исторических обстоятельств, которое на века сделало их верными в самом что ни на есть буквальном смысле (если, конечно, вместе со старцем и его адресатами однозначно понять слово «христианский» как синоним слова «православный»). Новым или все-таки не совсем новым? Неповторимое время державы Константина словно повторялось: на свете снова было только одно государственное воплощение для истинной веры, не могущее, в отличие от католических государств Запада, войти ни в какой ряд, ни в какие отношения соподчинения с единоверными ему государствами. Когда в одном из духовных стихов народ говорит о власти Белого царя «надо всей землей, над вселенною» — это уже не политика, это нечто иное. Недаром употреблено книжное, заимствованное из церковного обихода слово «вселенная» — буквальный перевод византийского «икумени».
Наряду с вероисповедным моментом важен момент географический. Киевская Русь, территориально большое, но умещавшееся в каких-то самоочевидных пределах государство, еще могла ощущать себя хотя и пограничной, но все же интегрирующей частью целого — европейской christianitas, благо и вероисповедные различия еще не настолько болезненно воспринимались, чтобы мешать, например, династическим бракам между правящими домами Руси и Запада. Но после татарского завоевания, а в особенности после освобождения при Иоанне III и победоносных походов Иоанна IV на татар, после завоевания Казанского и Астраханского ханств Русь все более становится ареалом евразийским — на иной лад, но не меньше, чем Византия[14]. Она тоже сама себе мир.