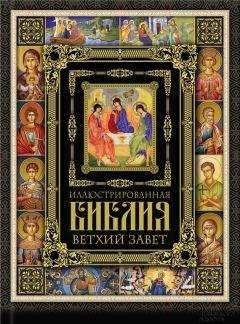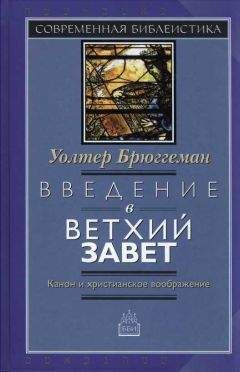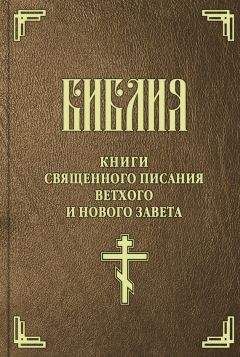Дэвид Смит - На пути в Эммаус
Последняя мысль перед тем, как двинуться дальше. В евангельской истории одного из двоих учеников на дороге в Эммаус звали Клеопой, но его спутник так и остается неназванным, безымянным, неизвестным. Принимая во внимание важность имен в древнем мире, из этой подробности можно сделать негативный вывод: перед нами в буквальном смысле никто, чья роль в истории, сформировавшей западную культуру, остается непризнанной, потому что его не записали по имени и забыли! Но, может быть, именно благодаря этому факту он может стать представителем любого человека, символом каждого из нас. В другом отрывке Евангелия, перед тем, как Иисус рассказал одну из самых удивительных из всех Своих притчей, Его спросили, кого нам считать своими «ближними». В ответ Он описал как путник, которого схватили, избили, раздели донага и бросили умирать на дороге и который тем самым лишился всех узнаваемых признаков своей расы и религии, тем не менее, получил помощь от презренного самарянина, считавшего своим ближним каждого, кто нуждался в подмоге. Может быть, безымянный путник на дороге в Эммаус послужит для нас напоминанием о том, что к нашему разговору может присоединиться любой, и мы должны быть готовы принять в качестве ближнего всякого, кто страдает от отчужденности, разочарования и смятения в сгущающемся мраке стареющего мира.
Послания с дороги в Эммаус 1
Имя: Альбер Камю
Биографические данные: Французский философ, романист и драматург. Родился в 1913 г. в Алжире; в 1957 г. удостоился Нобелевской премии по литературе; в i960 г. погиб в автокатастрофе. Камю всю жизнь пытался понять, как совместить кажущуюся «абсурдность» мира с неистребимой жаждой людей по смыслу — особенно если Вселенная, в которой они живут, стала пустой и безмолвной. Мало кто из современных писателей выразил эту дилемму с такой ясностью, честностью и смелостью. Вот что пишет нам Камю с дороги к Эммаусу:
«Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов "за", нет доводов "против", убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными — разницы никакой. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза».
«Поскольку престол Всевышнего опрокинут, бунтарь признает, что ту справедливость, тот порядок, то единство, которые он тщетно искал в своей жизни, ему теперь предстоит созидать собственными руками, чтобы тем самым оправдать низложение Бога… Это не обходится без ужасающих последствий, из которых мы пока осознаем лишь немногие».
«Как только человек подвергает Бога моральной оценке, он убивает Бога в самом себе. Но на чем тогда основывается мораль? Бога отрицают во имя справедливости, но можно ли понять идею справедливости вне идеи Бога? Не оказываемся ли мы тогда в абсурдной ситуации?»
«Всякая мораль становится предварительной. В своих самых глубинных тенденциях XIX и XX столетия — это эпохи, когда была сделана попытка жить без трансценденции».
«Цинизм, обожествление истории и материи, индивидуальный террор или государственное преступление — этим не ведающим пределов следствиям вскоре предстоит во всеоружии появиться на свет из двусмысленной концепции мира, которая предоставляет одной лишь истории создавать ценности и истину. Если ничто не может ясно мыслиться, пока в конце времен не будет явлена истина, то всякое действие — произвол и в мире царствует сила».
«При сопоставлении с античным миром схожесть христианского и марксистского миров представляется поразительной. Их роднит общий взгляд на мировые процессы, столь отличающийся от воззрений античности. Прекрасное определение этого взгляда было дано Ясперсом: "Именно христианской мысли присуще понимание истории как в высшей мере единого процесса"».
«"Как можно жить без благодати?" — таков был коренной вопрос XIX в. "Справедливостью", — отвечали на него все те, кто не хотел принять абсолютный нигилизм. Народам, отчаявшимся в царствии небесном, они обещали царство человека. Проповедь человеческого Града усилилась к концу XIX в., когда она сделалась поистине визионерской и поставила достижения науки на службу утопии. Но царство отступало все дальше и дальше, чудовищные войны опустошали древнейшую из земель, кровь бунтарей пятнала стены городов, а полная справедливость так и не наступала. И вот мало-помалу прояснился коренной вопрос XX в., тот самый, за который отдали жизнь террористы девятьсот пятого года и который продолжает терзать современный мир: "Как жить без благодати и без справедливости?"». [13]
«Не знаю, есть ли у этого мира превосходящий его смысл. Знаю только, что он мне неизвестен, что в данный момент он для меня непостижим. Что может значить для меня значение, лежащее за пределами моего удела? Я способен к пониманию только в человеческих терминах. Мне понятно то, к чему я притрагиваюсь, что оказывает мне сопротивление. Понимаю я также две достоверности — мое желание абсолюта и единства, с одной стороны, и несводимость этого мира к рациональному и разумному принципу — с другой. И я знаю, что не могу примирить эти две противоположные достоверности».
«В присутствии Бога это уже не столько проблема свободы, сколько проблема зла. Альтернатива известна: либо мы не свободны и ответ за зло лежит на всемогущем Боге, либо мы свободны и ответственны, а Бог не всемогущ. Все тонкости различных школ ничего не прибавили к остроте этого парадокса».
«Достоверность Бога, придающего смысл жизни, куда более притягательна, чем достоверность безнаказанной власти злодеяния. Нетрудно сделать выбор между ними. Но выбора нет, и поэтому приходит горечь». [14]
«Миру нужен реальный диалог… Ложь — такая же противоположность диалога, как и молчание… А диалог возможен в единственном случае: если люди остаются самими собой и говорят то, что думают. Иными словами, современному миру нужны христиане, которые остаются христианами… Я не стану пытаться выдать себя за христианина в вашем присутствии. Я, как и вы, с отвращением отношусь к злу. Но я не разделяю вашей надежды и продолжаю бороться против этой вселенной, где страдают и умирают дети». [15]
2. Христиане на пути в Эммаус
В предыдущей главе я попытался показать, что библейская история о событиях на дороге в Эммаус нередко находит отклик среди людей, не являющихся христианами, и именно поэтому нам, христианам, следует извлечь из нее ряд фундаментально важных принципов, которые должны сформировать сущность и практику нашего общения с людьми в рамках светской культуры. К этому мы вернемся чуть позже. Сейчас же мне хотелось бы подумать еще об одном значимом факте: о том, что современные западные христиане сами сталкиваются с кризисом веры, и нередко от них тоже можно услышать слова «А мы-то было надеялись!»
Иными словами, нынешний контекст не позволяет христианам предлагать неверующим ответы на современные дилеммы, ведя себя так, будто у них самих нет никаких вопросов и сомнений. Напротив, оказавшись в такой исторической ситуации, когда унаследованные ими аксиомы и убеждения выглядят шаткими и ненадежными, христиане получили возможность вести с неверующими подлинный диалог — как раз такой, о каком просил писатель-гуманист Альбер Камю. Теперь христиане уже не вступают в этот диалог с позиции незыблемой силы и безоблачной уверенности; у них тоже есть свои обиды, разочарования и неразрешенные дилеммы. Когда это открыто признается, возникает возможность подлинного товарищества, и мы оказываемся в точно такой же ситуации, как двое учеников на дороге в Эммаус, которые шли и «разговаривали между собою о всех сих событиях» в свете уходящего дня.
Кризис христианства
На первый взгляд, когда в культуре распространяется ощущение всеобщего кризиса, христианам предоставляется блестящая возможность обратиться к людям со словом прощения, исцеления, надежды и жизни. В прошлом в подобные моменты социально-культурного кризиса христианское Евангелие имело в недомогающем обществе такой резонанс, что в результате возникали движения духовного пробуждения, приводившие к массовому покаянию людей. И хотя некоторые христиане считают, что мы стоим на пороге такого же пробуждения, факты говорят о том, что вера, более тысячи лет служившая основанием западного общества, утратила сколько-нибудь значимый контакт с культурой современного мира.
Я пишу эти строки, находясь в Глазго, одном из первых крупных городов, возникших во время индустриальной революции. Глядя в окно, я вижу среди домов шпили и купола: на урбанизацию викторианское христианство отреагировало массовым строительством церквей. Сегодня эти здания уже не являются признаками активной духовной жизни или пророческой веры; скорее, они свидетельствуют об упадке веры в городе. Открывая окно, я слышу постоянный гул машин с центрального шоссе, делящего город пополам и соединяющего Глазго со вторым крупным городом Шотландии Эдинбургом. В нескольких милях от моего дома, на холме рядом с шоссе, притулилась церковь, возле которой уже несколько месяцев красуется плакат, призывая тысячи проезжающих мимо людей: «Спасем исторический памятник!» Вряд ли организаторы этой реставрационной кампании осознают двойную и весьма печальную иронию своего лозунга: когда-то живая церковь теперь стала просто памятником и сама взывает к миру о спасении. [16]