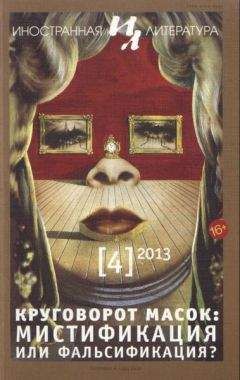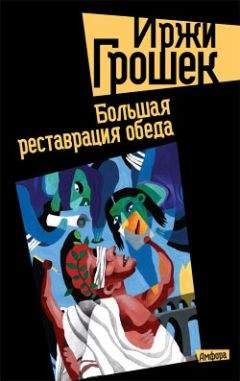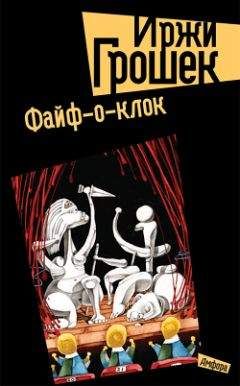Иржи Лангер - Девять врат. Таинства хасидов
После увольнения из армии Иржи вернулся к белзскому ребе и прожил у него в глубоком тылу до конца войны. Осенью 1918 года, когда пала Австро-Венгрия, белзские друзья брата стали гражданами Польской республики, а брат — новой Чехословакии. Все вернулись в родные края, и с того времени их уже разделяли новые государственные границы.
С Иржи я вновь встретился только в 1920 году, когда возвратился домой. К моему удивлению, его внешность, как я бы сказал, была вполне европейской. И его отношение к семье стало гораздо ровнее. Он с интересом расспрашивал меня о моих военных приключениях и рассказывал о своей жизни. Но в то же время брат не отказывался ни от своих религиозных воззрений, ни от обычных обрядов, ни от тех, что перенял у хасидов. Разговаривая с какой-нибудь женщиной, он по-прежнему косился в сторону и, уж конечно, не подавал ей руки. Но сейчас он уже не носил шляпу постоянно, а вместо нее надевал дома бархатную раввинскую шапочку, от его пейсов не осталось и следа. Питался он в хасидских столовых в Праге — некоторые группы хасидов все-таки продолжали существовать, — а дома, как и прежде, варил для себя кашу на спиртовке, хотя и не с тем упорством, как это было несколько лет назад. Теперь он часто предлагал мне попробовать кашу и убедиться, что она достаточно вкусная.
Но более всего я был поражен, когда узнал, чем он теперь занимается. Книги, которые он читал, были написаны не на иврите, а на чешском и немецком, да и изучал он нечто иное, чем Талмуд. В то время были распространены труды Зигмунда Фрейда и его учеников. Брат собрал тогда все изданные произведения и все, что было напечатано в психоаналитическом журнале Imago, выходившем в Вене. У Фрейда мы находили немало тем для наших бесед. Надо сказать, что Фрейд в то время интересовал меня больше как явление литературное, а его учение я считал совершенно фантастической гипотезой. Брат же воспринимал открытия Фрейда как научную аксиому особой ценности. С помощью фрейдистского анализа он стал разбирать самое сущность еврейских обрядовых и культовых обычаев, искать подсознательные источники еврейской мистики и более того — изначальное происхождение всякой религиозной идеи. Его занятия являли собой потрясающее зрелище: в одной руке Иржи держал открытую книгу великого современного психоаналитика, в другой — открытый фолиант древнего Талмуда или какую-нибудь еврейскую мистическую книгу, например Зогар. Плоды своего нового увлечения он опубликовал в 1923 году в книге Die Erotik der Kabbala, а позже — в некоторых статьях, напечатанных в Imago. Они выходили на немецком языке; в Чехии той поры мало кто знал о Фрейде, а еще меньше было тех, кто профессионально занимался особой связью психоанализа с еврейским религиозным учением. Меня прежде всего поразило в работах Иржи то обстоятельство, что он, ничтоже сумняшеся, устанавливает связи иудаизма и его истоков с такими архаическими феноменами, как фетиши, тотемы и табу, в которых Фрейд прослеживает историческое подсознание человеческих общественных отношений и законов. Столь же безоговорочно Иржи связывает еврейские — почти священные — символы, такие, как молитвенные ремешки или мезузы на дверных притолоках, с самыми примитивными прачеловеческими культовыми идолами, имевшими форму половых членов. Более того, он, подобно Фрейду, заходит так далеко, что возводит высокодуховные законы и высшую этику еврейской веры к эротическому началу. Мне, как дилетанту, казалось, что любой правоверный еврей найдет в этих умозаключениях брата много еретического и кощунственного. Однако я видел, что Иржи пришел к своим выводам, пребывая в полной невинности: любое открытие, сделанное им в Талмуде, доставляло ему такую же радость, какую, должно быть, испытывали древние толкователи-талмудисты. Не сомневаюсь, что несбыточной мечтой Иржи в ту пору было отыскать возможность зафиксировать свои новые познания, а точнее — напечатать их мелкими буквами на полях Талмуда и тем самым обрести такие же почет и славу, как и его средневековые предшественники.
Я не помню, как его книга была принята критикой, да и вообще заметили ли ее появление в Праге. Во всяком случае, научные изыскания не осложняли брату жизни, а его религиозность и слава ученого даже способствовали тому, что дирекция пражской еврейской школы распорядилась принять Иржи на должность учителя. Это назначение прежде всего доставило великую радость отцу: наконец-то его сын получил постоянное место работы. Рассказывали, что у своих учеников брат пользовался большой любовью, поскольку относился к ним с добродушным снисхождением и всегда искрился юмором. Зато руководство школы ценило Иржи меньше по причине его неорганизованности и необязательности — уроки он никогда не начинал вовремя, а когда чем-то сильно увлекался в своих научных изысканиях, то вообще по нескольку дней не появлялся в школе. Частые нелады с руководством приводили к тому, что его не раз увольняли, но столько же раз прощали и брали снова.
В такие вынужденные каникулы ему удалось съездить в Палестину. Отправился он туда скорее как историк, чем паломник или, предположим, будущий поселенец. Брат вернулся, потрясенный красотами Земли обетованной и усилиями зачинателей еврейского отечества, но, как вскоре оказалось, все-таки осел в Праге, и вполне основательно. Его следующим путешествием стала поездка в Париж. Там Иржи пробыл несколько недель, проведя их, главным образом, в музеях; о прочих удовольствиях Парижа он не рассказывал.
В конце концов он окончательно расстался со своим учительством. Что ж, он не нуждался, мог жить с родителями, мне неплохо платили за постановку моих пьес, брат Йозеф тоже был при деньгах, так что мы сообща вполне обеспечивали его потребности. А кое-что Иржи и сам зарабатывал статьями и переводами. Брат был весьма одаренным лингвистом: помимо родного языка он знал иврит, идиш, отлично владел арамейским, арабским, немецким, французским и английским, без словаря читал на многих других языках. Однажды я застал его за изучением фотокопий досок, покрытых клинописью, которую он старался расшифровывать. Иржи издал в Праге книжку стихов под названием Пийутим веширей едидут («Стихи и песни друзьям»), написанную, как говорили знатоки, на классическом и поэтически чистом библейском языке. Нельзя не заметить, что это была первая книжка древнееврейских стихов, изданная в старой пражской еврейской типографии за целое столетие.
Все это время брат оставался глубоко религиозным человеком и не нарушал основных заповедей своей веры. Он лишь постепенно избавлялся от наиболее фанатичных и менее значимых обычаев. Так, спустя годы он перестал считать омовение чисто ритуальным обрядом, а видел в этом прежде всего гигиеническую необходимость. С женщинами он не только здоровался за руку — ходили слухи, что он весьма галантен с дамами, особенно пожилыми. Одевался Иржи необыкновенно тщательно. Однако, навещая меня, пил лишь кофе и никогда не оставался ужинать. Он все еще питался в приличных кошерных ресторациях — некоторые из них отличались отменной кухней. Брат много читал, знакомясь со всеми интересными новинками мировой литературы, ходил в театр и не пропускал ни одной моей премьеры. Он очень часто посещал концерты и сам стал играть на скрипке. Основы скрипичной игры преподал ему учитель, а затем он уже самостоятельно совершенствовал свое мастерство. Несомненно, Иржи обладал незаурядным дарованием. Я ни разу не видел, чтобы он играл по нотам. Чаще всего он, прохаживаясь со скрипкой по комнате, импровизировал, изобретательно сочетая мотивы из классики, еврейских и негритянских напевов, произведений чешских композиторов и словацких песен. Он играл чисто, легко, но вместе с тем страстно, акцентируя бурные ритмы и размахивая смычком, подобно цыганскому музыканту.
Летом он любил плавать во Влтаве, а зимой катался на коньках. В этом виде спорта он достиг большого мастерства, и я часто ходил с детьми смотреть, как их дядя катается по замерзшей реке, танцует на льду и выделывает всякие трюки. Я слышал, что Иржи даже написал учебник по фигурному катанию, хотя он не сказал мне об этом ни слова, но то обстоятельство, что я нигде не мог найти его книжку, заставляет меня предположить, что она вышла под псевдонимом. Теперь у него было множество друзей. Он сумел их найти и после возвращения из Белза в 1915 году: оживил старые дружеские связи и завел новые. Бывало, он приходил домой только на рассвете и, как правило, в приподнятом настроении. Во время войны он подружился с Францем Кафкой, и они подолгу, до позднего вечера, бродили по старой Праге. Кафка обрел в Иржи родственную душу; его дневник содержит несколько хасидских легенд, рассказанных ему братом. Иржи всегда отличался спокойным, терпеливым нравом, а впоследствии к этим качествам добавилась еще и усвоенная им хасидская беззаботность в вопросах материального благоденствия. Эти черты характера он еще усиливал своим юмором, помогавшим ему легко переносить и педагогические невзгоды, и периодическую безработицу.