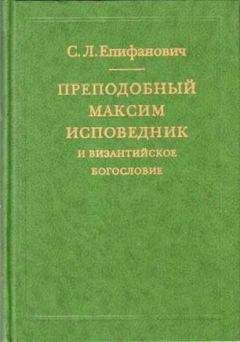Сергей Иванов - Византийское миссионерство: Можно ли сделать из «варвара» христианина?
Хотя легенда вроде бы задумана для прославления Христомея, автор постоянно объединяется с читателем против своего героя, увиденного то глазами перепуганных апостолов, то глазами умирающих от ужаса горожан. В «юмористической» сцене, рисующей Андрея и Варфоломея трусами, нам явно предлагается посочувствовать им, а не осудить. Если поверхностное назидание повести состоит в том, что даже людоед может стать христианином, то внутренний ее смысл, пробивающий себе дорогу, быть может, наперекор авторской воле, — совсем противоположный: даже став христианином, варвар все равно остается людоедом. Зверь дремлет в нем всегда, даже когда по Божьему веленью он временно превращается в кроткого агнца.
Сделав первый шаг, переняв самый дискурс варварства, христиане уже вступили на путь усвоения римских представлений о варварах. В апологетических сочинениях все настойчивее звучит мотив, что христианство выгодно для Империи (до которой гонимым христианам, казалось бы, не должно быть дела!), поскольку оно помогает смягчать варварский нрав. «Нет ни одного народа, — говорит во II в. Арнобий, — столь варварского нрава и [до такой степени] не знающего кротости (tarn barbari moris et mansuetudinem nesciens), который, будучи обращен Его любовью, не смягчил бы своей жестокости и, обретя безмятежность, не перешел бы к миролюбивым настроениям (molliverit asperitatem suam et in placidos sensus adsumpta tranquillitate migraverit)»[41]. Вот что пишет Ориген: «С приходом Христа нравы вселенной повсюду изменились в сторону мягкости (έπί τό ήμερώτερον)… Все варвары, прибегшие к Слову Божию, станут невероятно законопослушными и более кроткими (νομιμώτατοι εσονται καί ήμερώτεροι)»[42]. Этот мотив интересен тем, что он сущностно противоречит основной тональности христианской апологетики — тезису о том, что варвары лучше подданных Империи воспринимают новую религию. Такая переимчивость в отношении имперского дискурса имела колоссальные последствия для судеб имперского христианства.
3Апологеты настаивали на всемирном характере своей религии не только во имя ее легитимизации. Ранние христиане жили в напряженном, каждодневном ожидании конца света, а в Евангелиях говорилось, что он наступит не раньше, чем Слово будет проповедано во всех концах земли. Ориген, оправдывая задержку со Вторым Пришествием, пишет: «Ведь есть пока много не только варварских, но и наших народов, которые доныне не слышали христианского Слова… Передают, что Евангелие не было еще проповедано перед всеми эфиопами, особенно теми, которые живут за рекой [Нилом]. Ни у серов (китайцев. — С. И.), ни у ариацинов еще не слышали христианской проповеди. А что сказать о британах или германцах, живущих возле Океана? Да и варварские даки, и сарматы, и скифы — большинство из них тоже еще не слышали слова Евангелия»[43]. Макарий Магн считает, что конец света не наступил потому, что Евангелие еще не было проповедано «семи народам из индов» и «эфиопам, именуемым долгоживущими» (Macarii Magnis Apocriticus, II, 13). Итак, распространение христианства приближало Второе Пришествие. Предприятие подобного масштаба не могло быть результатом обычных человеческих усилий. Поэтому обращение чужеземных стран приписывалось в христианском сознании деятельности не обычных людей — но апостолов.
В апокрифических «Хождениях апостолов», которые начали возникать во II‑III вв., довольно много говорится о том, как ученики Христа жеребьевкой поделили между собой «весь мир» для будущей миссии. О том, что сюжет миссионерства среди настоящих варваров довольно поздно появился в «хождениях», свидетельствует разнобой источников относительно результатов апостольской жеребьевки. В целом самые дальние страны оказались уделом Варфоломея, Фомы, Матфия, Симона и Андрея, но в вопросе о том, кто из них обращал Парфию, кто Индию, кто Эфиопию, нет согласия практически до конца византийского времени[44]. Интересно, что коррективы сюда вносил еще Никифор Каллист Ксантопул, церковный историк XIII‑XIV вв., который добавил в список стран, обращенных апостолом Фомой, остров Тапробану (Цейлон) и «народ брахманов»[45]. С другой стороны, даже самые культурно чуждые из объектов апостольской проповеди — обитатели «города людоедов», обращенные Андреем и Матфием, в изначальной версии легенды не являются варварами в собственном смысле этого слова: сказочное пространство этих апокрифических «хождений» больше всего напоминает условные декорации эллинистического романа[46]. Апостолы здесь страдают от козней язычников, от их жестокости — но, как ни странно, не от их нецивилизованное. Культурный барьер между апостолами и «людоедами» будет, как мы увидим, домыслен позднее (см. с. 246).
Хотя ни в одном из апокрифов не утверждается, что апостолы посещали сарматов или, допустим, массагетов, тем не менее ранние христиане были твердо убеждены, что посланцы Христа обратили именно «всю вселенную». В этом смысле можно говорить о миссионерской гордости молодой религии: «Много было и у эллинов, и у варваров законодателей и учителей, проповедовавших догматы, возвещавших истину, — восклицает Ориген, — но… никто не сумел внушить то, что он считал истиной, различным народам (εθνεσι διαφόροις)»[47]. Однако представление о миссии было у апологетов весьма своеобразным. Например, не имело существенного значения количество миссионеров. «Слово сумело быть возвещенным по всей вселенной, — пишет Памфил Мученик (III‑IV вв.), — так что прилепились к Иисусовому благочестию и эллины, и варвары, и мудрые, и глупые — хотя учителей было и немного (καίτοιγε ούδέ των διδασκάλων πλεοναζόντων)»[48]. Не существует в этот период и какой бы то ни было идеи подготовки миссионера к его предприятию. Как, к примеру, решалась проблема языка проповеди? Ясно, что дар «говорения на языках» не оставался с апостолами после Пятидесятницы (ср. с. 17), а значит, вроде бы должны были возникать переводческие проблемы. Действительно, в апокрифических сирийских «Деяниях Иуды Фомы» мотив лингвистического непонимания со стороны варваров звучит один–единственный раз, в самом начале произведения; тогда слова апостола понимает лишь одна служанка–еврейка, которая пересказывает его речь остальным[49]. Однако в дальнейшем, по мере усиления сказочного элемента в повествовании, эта проблема как‑то сама собой исчезает: читатель так и не узнаёт, на каком наречии проповедовал Фома в Индии. Видимо, все эти проблемы должны были решиться сами собой, благодаря божественному вмешательству.
Вообще, обращение апостолами варваров мыслилось чисто символическим предприятием. Варвары должны были прийти к Богу сами, и участие в этом процессе христиан воспринималось как вторичное, вспомогательное. «Таково это истинное Слово о божественном, о мужи эллинские и варварские, халдейские и ассирийские, египетские и ливийские, индийские и эфиопские, кельтские и латинские… чтобы вы, прибегнув [к нам], были нами научены (προσδραμόντες διδαχθήτε παρ’ ήμών)[50]. Это фаталистическое восприятие христианизации не побуждало к установлению реального контакта с варварами.
У ранних христиан не было ответа на простой вопрос, как следует относиться к жестокости варваров, к их опустошительным набегам. Когда враг христианства Келье заявляет, что идея братского соединения всего человечества приведет лишь к одному — «вся земля окажется под властью беззаконных и диких варваров», то Ориген возражает ему так: «Если варвары прибегнут к Слову Божию, то станут законопослушными и кроткими». А если не прибегнут? — недоумевает Келье: «ведь невозможно, чтобы Азия, и Европа, и Ливия, эллины и варвары вплоть до самых пределов вселенной согласились бы на единый закон! Мечтающий об этом ничего не понимает!» Но Ориген невозмутим: «Это и впрямь невозможно по плоти (τάχα αληθώς αδύνατον… έν σώματι). Но совершенно возможно для освободившихся от нее»[51]. Спорящие говорят на разных языках: устами Кельса вещает суровый опыт римской государственности, устами Оригена — эсхатологические чаяния раннего христианства.
Итак, в догосударственную эпоху христиане создали свой идеал миссионера — образ «апостола у варваров», но идеал этот был лишен черт какой бы то ни было конкретности. Лишь гораздо позднее данный образ был переосмыслен как миссионерский (см. с. 142).
Глава II. Миссионерство позднеримской эпохи (III‑V вв.)
В начальный период своего существования христианство распространялось по Империи подспудно, скорее от человека к человеку, нежели в результате организованной церковью миссионерской деятельности[52]. Уж заведомо не велось никакой целенаправленной пропаганды за пределами Империи. И однако не позднее второй половины III в. начался процесс христианизации варварских княжеств[53]. По словам историка Созомена, «почти для всех варваров поводом к принятию христианского учения (πρεσβεύειν τό δόγμα των Χριστιανών) были случавшиеся по временам войны с римлянами и иноплеменниками в правление Галлиена и его преемников… Когда церковь расширилась на всю Римскую вселенную, вера двинулась и через [народы] самих варваров (καί διά αυτών τών βαρβάρων ή θρησκεία έχώρει). Уже христианизировались (έχριστιάνιζον) племена вокруг Рейна, кельты и самые дальние из галатов, те, что живут у Океана, и готы, и те их соседи, которые прежде сидели у берегов реки Истр» (Sozomeni II, 6).