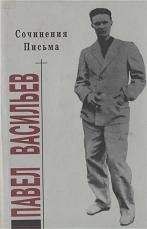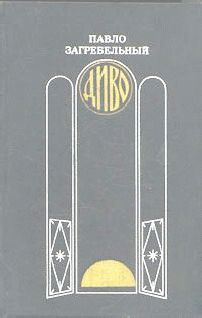Павел Флоренский - Павел Флоренский История и философия искусства
1924. V. 10 ст. ст., пятница
Итак, конструкция есть форма изображаемого произведения, или, иначе говоря, способ взаимоотношения и взаимодействия сил реальности, переливаемой помощью произведения, воспринимаемой чрез него. Напротив, композиция есть форма самого изображения, как такового, т. е. способ взаимоотношения и взаимодействия изобразительных средств, примененных в данном произведении. Можно еще сказать: конструкцией, поскольку она выражена в произведении, дается зрителю (или слушателю, если речь идет не о произведении изобразительном) единство некоторой части действительности, вследствие чего уголок мира воспринимается и понимается как некоторое замкнутое в себя, хотя и относительно, целое; этим оно уподобляется организму.
Но усмотреть и передать органическую самозамкнутость некоторой реальности еще не значит такового же единства самого произведения, т. е. изображения этой реальности. Так, фотографический снимок с прекрасного представителя какого‑нибудь животного вида, при всей типичности изображенного животного, т. е., следовательно, при яркой выраженности его органически конструктивного единства, все‑таки нисколько не есть произведение художества: изображение, как таковое, тут лишено цельности.
Таким образом, изображение само должно иметь свое единство, и, показывая нам организм действительности, должно само быть организмом. Итак, во–первых —органичность и, во–вторых — тоже органичность: во–первых — целое и, во–вторых — опять целое. Но эти во–первых и вовторых относятся к разным, ничуть не сравнимым между собою областям бытия: между быком под деревом и холмом П. Поттера под названием «Молодой бык»[107] нет ничего общего, ничуть не менее, нежели (между) Керн и листком бумаги с «Я помню чудное мгновенье». Однако и то и другое единство, относясь к существенно разным областям и приводя к цельности области вполне разнородные, тем не менее все‑таки связаны между собою в таинственный узел, называемый художественным произведением. Оба единства, конструктивное и композиционное, совмещаются в одном произведении, хотя одно из другого, или наоборот, никакою прямою зависимостью не вытекает. Мало того, загодя нужно думать о взаимном исключении их друг другом, ибо отнюдь не понятно, как может быть в произведении единство конструктивное, если это произведение подчиняется своему собственному, и притом не вытекающему из первого, единству композиционному.
А с другой стороны, если уж пошло на передачу конструктивного единства самой действительности, то непостижимо внесение еще другого единства, композиционного. Казалось бы, новое единство по необходимости исказит и разрушит то, которое было принято за исходное. Но наличие обоих этих единств в произведении не только есть, — вопреки отвлеченной мысли о невозможности, — но и определяет собою самую возможность произведения: оба единства суть антиномически сопряженные полюсы произведения, друг от друга неотделимые, как и несводимые друг на друга. Формула Совершенного Символа — «неслиянно и нераздельно»[108] —распространяется и на всякий относительный символ, —на всякое художественное произведение: вне этой формулы нет и художества.
XLVI
Но тут‑то подымается возражение, ближайшим поводом к которому служит ветвь искусства, по–видимому, третьестепенная, но которая способна разрастись притоком новых сопоставлений и вызвать сомнение если не в правильности, то во всяком случае во всеобщности всего предыдущего. Эта ветвь изобразительного искусства — орнамент. Когда хотят осудить какое‑либо произведение за беспредметность, его приравнивают орнаменту. Этим должна быть отмечена его неизобразительность; как говорится в таких случаях, «красиво, но ничего не значит, — ковер». Таким образом, орнамент оказывается типическим примером беспредметной живописи или графики и, следовательно, лишь по недоразумению относится к числу искусств изобразительных.
Может быть, археолог попытается оправдать такое издавна ведущееся причисление орнаментики к изобразительному искусству ссылкою на историческое прошлое орнамента. Не будучи в собственном смысле изображением, орнамент, однако, был первоначально изображением, и лишь все углублявшаяся стилизация вытравила из него сходство с предметами природы, образами которых были элементы различных орнаментов. Отсюда‑то, скажут, по старой памяти и сохраняется место орнамента среди изобразительных искусств.
Если бы вышеприведенное археологическое соображение и было обосновано само по себе, то все‑таки оно не оправдывало бы в настоящем отнесение орнамента к искусству изобразительному: откуда бы ни возник орнамент в прошлом, т. е. как стилизованное изображение человеческих и животных фигур, утвари и орудий, деревьев, цветов, плодов и листьев, он не может быть называем изображением сейчас, если связь его с изображаемым уже порвана и лишь археологически может быть установлена по косвенным соображениям, отвлеченно утверждаемая, но не воспринимаемая наглядно.
Впрочем, и эта, археологическая, установка предметности орнамента более чем сомнительна. Не упрощением и схематизацией, а, напротив, осложнением и оплотнением характеризуется история орнамента, по крайней мере во многих частных случаях. Орнамент первоначально строится геометрическими линиями, и лишь впоследствии они облекаются плотию, сообразно данной геометрической схеме орнамента, тогда‑то и возникают в орнаменте отдельные изобразительные элементы, как попытка протолковать предметно — первоначальное беспредметное. Может быть, эта попытка и не вполне произвольна; но тем не менее истолкование некоторых линий как схемы именно данного образа, а не какого‑либо другого, может осуществляться различными способами, и образы, подбираемые для оплотнения данного орнамента, многоразличны. Предметность орнамента при таком его истолковании есть нечто вторичное, к орнаменту присоединяемое особым актом творчества, пусть орнамент не насилующим, но зато из него и не вытекающим с необходимостью. Таким образом, основание сомневаться, правильно ли причисление орнамента к искусствам изобразительным, дается еще более крепкое.
Итак, орнамент, вообще говоря, не изображает внешнего мира и не имеет в предметах природы своих образцов, во всяком случае изобразительность в таком смысле орнаменту не присуща обязательно, а когда есть, то должна рассматриваться как нечто вторичное и второстепенное[109]. Это можно считать установленным. Но отсюда был бы слишком поспешен вывод о беспредметности орнамента, ибо предмет, в смысле трансцендентного изображению — изображаемого содержания вовсе не должен непременно быть одним из чувственных образов природы. Ведь наряду с чувственными образами и над ними существуют также не чувственные, но вполне реальные типы и виды соотношения между собою чувственного, ритмы и закономерности чувственного (а также и сверхчувственного), сами уже не представляющиеся чувственными образами. Эти ритмы бытия, законы мировой жизни и типы конкретности вполне могут быть предметом, выражаемым или передаваемым посредством художественного произведения; они даже наиболее достойный предмет художества. «Поэзия, — сказал некогда Аристотель, — философичнее истории»[110]. Это —по большей обобщенности образов поэзии, сравнительно с образами истории, частными, дробными и потому малоценными.
И вообще, художество философичнее изображения фактического. Но то же надлежит повторить и применительно к искусству, выражающему ритмы и законы действительности гораздо более общими, а потому цельными и уплотненными, нежели образы отдельных вещей и существ, составляющих предмет обычного искусства.
Таким образом, орнамент отнюдь не беспредметен, т. е. не лишен антиномичности, свойственной символу, но, напротив — значительно усиливает противоречие между композицией и конструкцией и тем в высшей мере напрягает антиномический тонус между изображением и изображаемым. Орнамент философичнее других ветвей изобразительного искусства, ибо он изображает не отдельные вещи, и не частные их соотношения, а облекает наглядностью некие мировые формулы бытия. Если орнамент кажется лишенным трансцендентного содержания, то это — по малой доступности его предмета сознанию, не привыкшему к орлим взлетам над частным и дробным. Так, книга глубоких истин может показаться не доросшему до нее читателю или непонятной, или пустою, — словно говорится все как будто одно и то же с небольшими изменениями, смысл и ценность которых кажутся неуловимыми. Но наступает момент, и собственный предмет книги выступает из тумана величественным массивом, пред которым — ничто все недавние утехи окружающей полянки. Точно так же и орнамент, созданный в иные времена, монументального мышления и монументального мирочувствия, недоступен в своем мировом смысле мелкому сознанию современности, и оно пользуется этими таинственными и насыщенными величавою мыслью схемами бытия как внешним украшением или ремплиссажем пустот, где не хватает творчества и на чувственные образы. Не так ли по поговорке — «иконами прикрывают горшки», —очевидно не усматривая в них ничего, кроме доски? Однако эта доска есть запечатленное явление духовного мира, а орнамент — глубочайшее проникновение в ритм и строй жизни. Но ни духовный мир, ни Пифагорова музыка сфер недоступны оплотянившимся современным очам и ушам. Вот откуда суждение о беспредметности орнамента.