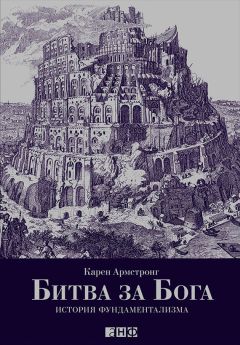Карен Армстронг - История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе
Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я — был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе.[36]
Иными словами, Бог — не объективная действительность, а духовное присутствие в запутанных глубинах души. Это прозрение роднит Августина не только с Платоном и Плотином, но также с буддистами, индуистами и шаманами, то есть последователями религий без бога. С другой стороны, у Августина это вовсе не безличное божество, а обладающий всеми чертами личности Бог иудео-христианской традиции. Этот Бог нисходит до слабого человека и Сам отправляется его искать:
Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою. Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою. Ты разлил благоухание Свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем.[37]
Греческие теологи обычно не привносили в ученые труды собственных переживаний, но богословие Августина определялось именно глубоко личными подробностями его жизни.
Увлечение возможностями разума привело Августина к разработке своеобразного психологического тринитаризма, описанного им в трактате «О Троице» в самом начале V века. Поскольку Бог сотворил людей по своему образу и подобию, в глубине ума каждого человека таится врожденная способность различать вокруг троичное. Если греки тешились метафизическим умозрением и понятийными тонкостями, то блаженный Августин начал свои изыскания с того момента истины, с которым почти все мы сталкивались. Слыша такие выражения, как «Бог — это Свет» или «Бог есть Истина», мы инстинктивно ощущаем проблески духовного интереса; мы чувствуем, что «Бог» способен придать нашей жизни определенный смысл и содержательность. Однако после такого мимолетного прозрения мы тут же возвращаемся к прежнему умонастроению, где господствует одержимость «вещами привычными и земными».[38] Пережитого неизъяснимого порыва, как ни старайся, уже не вернуть. Обычное мышление тут не поможет; прислушиваться нужно к тому, «что сердце чувствует» в словах «Он — Истина».[39] Но как любить реальность, которой не знаешь? Августин доказывает, что в наших умах есть своя троичность, отражающая Божью; как и любая другая платоновская идея, этот Архетип — изначальный образец, на основе которого мы созданы, — неизменно манит нас к себе.
Если начать рассуждения с ума, влюбленного в себя, найдешь не троичность, а двойственность: любовь и разум. Но ум не может себя любить, пока не сознаёт себя, не обладает тем, что можно назвать самосознанием. Предвосхищая Декарта, Августин утверждал, что постижение себя — основа всякой иной уверенности. Даже опыт сомнения повышает наше осознание себя.[40]
У души есть, таким образом, три свойства: память, понимание и воля, которые соответствуют познанию, самопознанию и любви. Как и три Божьих Лица, эти душевные качества по существу едины: о них никак нельзя сказать, что это три самостоятельных ума, — каждое из них, напротив, наполняет разум в целом и пронизывает остальные два свойства. «Помню, что есть у меня память, и понимание, и воля; понимаю, что понимаю, помню и проявляю волю; волей вызываю свое волеизъявление, и память, и понимание».[41] Подобно Божественной Троице в описании каппадокийцев, все три свойства души, следовательно, «составляют одну жизнь, один ум, одну сущность».[42]
Такие взгляды на устройство ума представляют собой, впрочем, лишь первый шаг: троичность внутри нас — не Сам Бог, но след, отражение нашего Творца. К символике отражения в зеркале — для описания преображающего Божьего присутствия в человеческой душе — прибегали и Афанасий, и Григорий Нисский. Чтобы правильно понять это сравнение, следует вспомнить, что греки верили в реальность зеркального отражения, которое возникает, когда свет из глаз зрящего смешивается со светом от видимого предмета, отраженным от поверхности зеркала.[43] Августин был убежден, что троичность человеческого ума также является отражением, свидетельствующим о присутствии Бога и к Нему же устремленным.[44] Но как вырваться за рамки этого образа, который, как в любом зеркале, отражается слишком тускло, и достичь Самого Бога? Безмерное расстояние между Богом и человеком невозможно преодолеть самостоятельно. Возродить в себе образ Бога, искаженный и изуродованный нашей греховностью, можно лишь благодаря тому, что Бог Сам пошел навстречу нам, облекшись плотью вочеловеченного Слова. Преображающий божественный Промысел открывается нам посредством тройственных усилий, которые Августин именует троицей веры: retineo (памятование об истинах Вочеловечения), contemplatio (размышление об этих истинах) и dilectio (наслаждение ими). Благодаря такому воспитанию непрестанного ощущения Божьего присутствия в человеческом разуме постепенно приходит и постижение Троицы.[45] Такое познание предполагает, однако, не просто получение рассудком тех или иных сведений, но творческие усилия, преображающие человека изнутри путем выявления в собственной душе божественного измерения.
То была эпоха мрака и ужаса на Западе. Вторгавшиеся в Европу варвары неутомимо расшатывали Римскую империю. Угроза заката цивилизации отразилась, конечно же, и на христианской духовности. Амвросий, великий наставник Августина, проповедовал сугубо оборонительную веру, где важнейшее место среди добродетелей занимала integritas — целостность. Церкви приходилось с особой бдительностью следить за неприкосновенностью своих доктрин: подобно непорочной Деве Марии, Церковь не могла пятнать себя ложными идеями варваров, массами обращавшихся в арианство. Глубокая печаль пронизывает и поздние работы Августина: падение Рима приводит богослова к доктрине Первородного Греха, которая позднее займет центральное место в западном мировоззрении. Блаженный Августин верил, что Бог обрек людей на вечное проклятие за единственный проступок Адама. Врожденная греховность передавалась потомкам первого человека через соитие, оскверненное, по словам Августина, «вожделением» — необъяснимым желанием искать удовольствие не в Самом Боге, а в его тварях. Острее всего это удовольствие ощущается при совокуплении, когда рассудок тонет в буре чувственных страстей и твари бесстыдно наслаждаются друг другом, напрочь забывая о Боге. Августинов образ разума, одурманенного хаосом безудержных чувств и дикой страсти, удивительно точно передает положение Рима — западного оплота здравомыслия, закона и порядка, — павшего под натиском варварских племен. В довершение, в своей суровой доктрине Августин рисует ужасающий портрет неумолимого Бога:
Изгнанный после греха из рая, человек и род свой, зараженный грехом в нем, как в корне, связал наказанием смерти и осуждения; так что все потомство его и осужденной вместе с ним жены рождалось от плотской похоти (в каковой похоти воздано было соответствующее неповиновению наказание) и получило первородный грех, ведущий через заблуждения и различные скорби к тому последнему, бесконечному наказанию вместе с отпавшими ангелами…
Следовательно, дело представляется так: осужденная масса всего рода человеческого лежала во зле или катилась и низвергалась из одного зла в другое, и, присоединившись к части согрешивших ангелов, подверглась достойному наказанию за нечестивое отпадение.[46]
В таком катастрофическом свете грехопадение Адама не рассматривали ни иудеи, ни грекоправославные; мусульмане тоже не примут позднее столь мрачного богословия Первородного Греха. Эта чисто западная доктрина усугубила предложенный ранее Тертуллианом образ жестокого Бога.
Блаженный Августин оставил нам весьма сложное наследие. Религия, которая внушает верующим идею неизбывной порочности человеческой природы, непременно отдаляет людей от самих себя — и наиболее явно такая отчужденность проявлялась в очернении сексуального начала в целом и женщин в частности. Несмотря на то, что первоначально христианство относилось к женщинам довольно мягко, к эпохе Августина на Западе уже царили женоненавистнические настроения. Письма Иеронима дышат таким отвращением к женщинам, что временами злоба эта наводит на мысли о расстроенной психике. Тертуллиан тоже обрушивался на женщин, видя в них злокозненных искусительниц и вечную угрозу роду людскому:
И ты еще не знаешь, что Ева — это ты? Приговор Божий над женским полом остается в силе, пока стоит этот мир, а значит, остается в силе и вина. Ведь именно ты по наущению дьявола первой нарушила Божью заповедь, сорвав с запретного древа плод. Именно ты соблазнила того, кого не сумел соблазнить дьявол. Ты с легкостью осквернила человека, это подобие Бога; наконец, исправление вины твоей стоило жизни Сыну Божьему.[47]