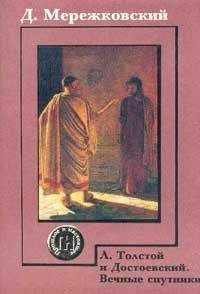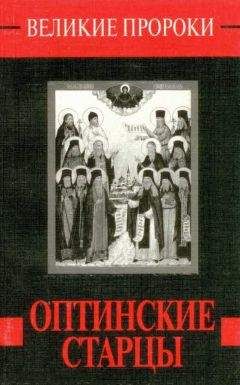Дмитрий Мережковский - Религия
«Преступление» для Раскольникова есть «покаяние», подчинение закону совести.
Этим собственно и кончается или, вернее, обрывается трагедия, ибо настоящего конца и разрешения вовсе нет: все, что следует далее, до такой степени искусственно и неискусно приставлено, прилеплено, что само собой отпадает, как маска с живого лица. Ну, конечно, он снова «покаялся»; конечно, снова «вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ногам Сони»; снова плачет он, обнимает ее колени — и «воскресает».
Но ведь тут одно из двух: или второе покаяние ничем не разнится от первого и есть обычный «припадок», похожий на припадки падучей («это оттого, что я очень болен», — признается он однажды сам), такой же, как и тот, который бросил его в первый раз к ногам Сони и потом — среди площади на грязную землю; а если это так, то надо думать, что, подобно всем остальным припадкам и этот пройдет без следа для его сознания, что больной опомнится, забудет все, что с ним было, и снова скажет, как уже столько раз говорил: «Совесть моя спокойна — менее чем когда-либо я понимаю мое преступление». Или же покаяние это уже действительно последнее, окончательное и бесповоротное. В таком случае произошло именно то, что Раскольников и сам давно предвидел, тогда еще, как шел каяться и спрашивал себя: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать — двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать перед людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надобно». — «Он глубоко задумался о том: каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, перед всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится? — „А что ж, почему же и нет? Конечно, так и должно быть. Разве двадцать лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем, зачем жить после этого, зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе“. В эпилоге „Преступления и наказания“ все действительно и совершается „именно так, как по книге“: вода проточила камень; внешний гнет раздавил-таки его, и он смирился без рассуждений». Но этот смирившийся, плачущий или, по собственному выражению, «хныкающий», «воскресающий» Раскольников — не живой человек, а только тень живого — живой мертвец. Тот прежний, настоящий и будущий, проклинающий людей и Бога — все-таки ближе к живым людям, к живому Богу, чем этот успокоенный, как будто даже слишком успокоенный, «покойный» раб Божий Родион. Кажется, один из боровшихся в нем двойников окончательно убил другого, «дрожащая тварь» убила «властелина»; но если умер один из двух сросшихся близнецов, то и другой должен умереть; и в самом деле, мы уже видели, как по сращению этих близнецов передается холод смерти, бледность смерти от одного к другому.
«В их больных и бледных лицах (Сони и Раскольникова) сияла заря обновленного будущего полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь… Он воскрес, и он знал это всем обновленным существом своим». «Воскрес, воскрес, обновился» — упорно и как-то уныло повторяет Достоевский, точно сам себе не верит.
«Вместо диалектики, — замечает он, — наступила жизнь».
Но опять — «так ли, так ли все это?» Не наоборот ли? Не наступила ли вместо жизни диалектика, нехлюдовская, левинская, толстовская, отвлеченно-христианская, буддийская диалектика? Как мало свободы и радости в этом воскресении. Ведь ему, пожалуй, и делать-то ничего не оставалось, как умирать под палкою или воскресать из-под палки. Не лучше ли, не чище ли было бы откровенно умереть, чем так сомнительно воскресать? «Воскрес», — шепчут уста, а в бескровном лице, в потухших глазах — все тот же вопрос: «И зачем, зачем жить, когда сам знаю, что все будет именно так, как по книге» — как по нравоучительной прописи отолстевшего Порфирия, как по одной из последних книг тоже слишком успокоенного, покойного Л. Толстого. Нет, кого другого, а нас этими «воскресениями» теперь уже не обманешь и не заманишь — слишком мы им знаем цену: «мертвечинкой от них припахивает»; Бог с ними, мы их и врагу не пожелаем!
Как бы то ни было, не последнее живое слово живого Раскольникова, каким он остается в нашей памяти, последний нравственный вывод самого Достоевского из всей трагедии — именно эти слова: «Совесть моя спокойна». — «Свое преступление признавал он только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною». Ни «Преступления», ни «наказания». Разве только уголовное преступление, уголовное наказание. Но ведь уж чересчур явно, что здесь нечто более ответственное и глубокое, чем простое уголовно-юридическое исследование. Нет, никогда еще под столь обманчиво и насмешливо успокоительным заглавием не являлось столь дерзновенной, искушающей книги; никогда под знаменем христианского смирения, терпения, покорности не была пропущена контрабанда более опасных взрывчатых веществ: произошло такое же приблизительно недоразумение, как если бы за прибор для тушения пожаров принят был снаряд, начиненный динамитом. И чем больше вдумываешься, тем больше удивляешься тому, что недоразумение это и до сей поры продолжается: нужна была вся близорукость и беззаботность русской критики в области религиозных вопросов, чтобы так обмануться.
Истинный Достоевский, тот бесстрашный испытатель божеских и сатанинских глубин, каким мы его знаем, начался с «Преступления и наказания». Все, что раньше создавал он, «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», принадлежит как бы совсем другому писателю. Если бы все это исчезло, образ его как художника, в особенности, как мыслителя, ничуть не пострадал бы, скорее, напротив, очистился бы от случайного и наносного. Одного прикосновения к вопросу, поставленному в «Преступлении и наказании», достаточно было, чтобы сразу вырос он почти до полной меры сил своих. В самой трагедии вопроса этого он так и не решил; но и отделаться от него с тех пор уже не мог никогда; с каждым из следующих произведений возвращался к нему все упорнее, все неотступнее; можно сказать, что всю свою жизнь Достоевский только и думал об этом вопросе, только им одним и мучился: от Наполеона-Раскольникова с его «все разрешается», через Подростка с его «могуществом и уединением», через Ставрогина, находящего «одинаковость наслаждения в обоих полюсах, в злодействах и в святости», через Кириллова, который первый произносит имя божества этой новой веры — «Человекобог» и постигает «главный атрибут божества своего» — «своеволие», — до Ивана Карамазова с его «все позволено», Ивана, которому уже с окончательною ясностью открывается то, что Раскольникову только смутно брезжит, — сверхнравственное, все равно, положительное или отрицательное, Христово или Антихристово, но во всяком случае религиозное значение последней свободы:
— Надо всего только в человеке разрушить идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! — говорит Черт Ивану. — Человек возвеличится духом титанической гордости, и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение, столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертей весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. — Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, то, так как Бога и бессмертия все-таки нет, новому человеку позволительно стать человекобогом, даже хотя бы одному в целом мире. — …В этом смысле ему все позволено — для Бога не существует закона! Где станет Бог, там уже место Божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место — «все дозволено».
Пусть это лишь капля того яда, целую чашу которого преподнес нам творец «Заратустры» и «Антихриста»; но к самой остроте и силе яда он ведь уже почти ничего не прибавил, может быть, даже у Достоевского имеет этот яд еще более разрушительную силу, благодаря тому, что не остается в чистом виде, как у Ницше, а входит, как одна из двух частей, в новый, еще ужаснейший состав: недаром Иван Карамазов, наперсник Черта, — другою, противоположною и равною половиною существа своего ближе, чем кто-либо, ближе (потому что близость эта сознательнее), чем даже «чистый херувим» Алеша, — к святому старцу Зосиме.
Далее раздвоенность человеческого существа, кажется, не шла никогда. Может ли она вообще идти далее?
Сам Достоевский, по-видимому, был уверен, что эта религиозная раздвоенность есть в России болезнь исключительно верхнего культурного слоя, подвергшегося влиянию духа западного, «ратного», и что в глубине народа, под сенью духа восточного, «благодатного», все еще сохраняется в неприкосновенности религиозное единство. Главною точкою опоры для сознания Достоевского среди его собственных религиозных сомнений и колебаний служило это именно нерушимое, будто бы, в лице русского народа-«богоносца», единство Лика Христова. «Русский народ, — говорит он — весь в православии — более в нем и у него ничего нет, да и не надо, потому что православие все». Действительно ли, однако, Достоевский так твердо был уверен в этом, как с первого взгляда может казаться, как ему самому хотелось, чтобы казалось?