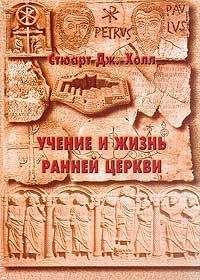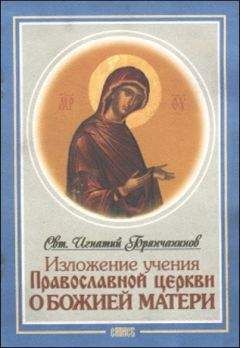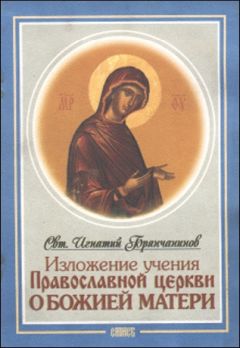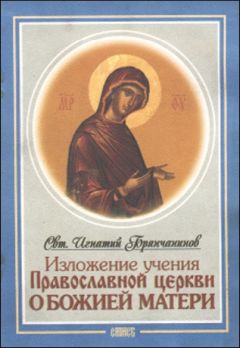Иван Орлов - Труды Св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе
Подобная точка зрения ошибочна. В действительности целое тождественно со своими частями: к существенному содержанию составляющих его частей (природ) целое (лицо) не привносит ровно ничего и не имеет «иного» природного существования (μή έτέραν κατά φύσιν ύπαρξιν), помимо принадлежащего природе, в нем существующей; не имеет, следовательно, и «иного» естественного действования (ούδ' έτέραν δηλονότι κατά φύσιν ένέργειαν)[449]. И Христос, как целое, как сложная ипостась, «имеет только то, что свойственно каждой Его природе (τά έκατέρας ίδια φύσεως κατά φύσιν έχει ό Χριστός), т. е. Божественную волю и действование и человеческую волю и действование», и иного чего–либо, помимо свойственного Его природам, вовсе не имеет, так что Ему никаким образом нельзя приписать одного действования или, кроме двух природных, еще иного третьего действования[450]. Правда, непосредственные преемники Сергия Пирр и Петр предлагали было признать во Христе именно такие три действования и воли; но едва ли даже и сами они смотрели на свое измышление иначе, чем как на последнее средство достигнуть соглашения, не имеющее ничего общего с основным воззрением монофелитизма.
Если бы на самом деле возможно было приписать Христу, как целому, в некотором смысле сложную волю, отличную от природных воль, то, прежде всего, это была бы никак уж не личная воля, уже по одному тому, что лицо Христа сложно не само по себе, а только относительно нераздельно существующих в нем природ. Личная сложная воля, если бы возможно было мыслить такую во Христе, представляла бы из себя соединение двух личных (а «τό γνωμικόν θέλημα», употребленное здесь Максимом, есть, как выше было сказано, лишь другое название «θέλησις ύποστατική») воль: Божественной и человеческой, — мысленное соединение двух невозможностей[451]. Ипостасной Божественной воли вовсе не существует, и такую волю решительно невозможно приписать Христу, не нарушая равенства Сына с Богом Отцом и со Св. Духом относительно воли[452]. Что касается личной человеческой воли, называемой γνωμικόν θέλημα, то хотя и существует на самом деле такая воля, как способ пользования прирожденной душе волевой способностью, но в приложении ко Христу о ней не может быть и речи по причине ее несовершенства, безусловно чуждого Христу, к$к человеку[453]. Мысленная сложная воля Христа скорее могла бы быть «природной», т. е. такой, которая представляла бы из себя реальное единство двух природных воль и могла бы быть названа личной только в смысле соединения (ένώσεως τρόπω), так как начало единства представляет лицо. По словам Пирра, монофелиты, в существе дела, так именно и представляли себе волю Христа[454]. Не говоря уже о самом названии одной сложной воли Христа (а она не может быть названа именем тех природ, в соединении (έν σύνθεσι) которых видят основание для признания за Христом такой воли[455]), допущение подобной воли приводит не к меньшим нелепостям в догматическом отношении. Если приписать Христу действование (а, следовательно, и волю) «от соединения», говорит Максим, то придется допустить, что «до соединения» Он не имел действования, и для сотворения мира потребно было предварительно возбудить в Нем силу творчества. Кроме того: так как Отец и Св. Дух стоят вне действительного соединения с плотью, то и они, подобно Сыну, не обладают способностью к деятельности, а следовательно — и силой творчества, чтобы не сказать более того[456].
Мысль Максима та, что и до соединения природ, от вечности, Бог Слово обладал Божественной волей, которая не могла измениться или слиться с волей воспринятого Им человечества, так что, несмотря на ипостасное соединение двух природ и на принадлежность всего природного, в качестве действительной собственности, одному лицу, два действования, равно как и прочия особенности соединенных природ, не могут быть рассматриваемы как один и единственный предмет обладания, как одно «сложное» действование.
Итак, одного сложного, называемого «богомужным» действования (μίας θεανδριχής ενεργείας) никаким образом допустить во Христе невозможно. Монофелитам оставалось, поэтому, одно из двух: или, оставаясь верными своему основоположению, строго держаться учения о μία ενέργεια и об έν θέλημα, или, поступясь своим основоположением, совершенно отказаться от мысли об одном действовании и воле. Монофелиты избирают первый путь и с точки зрения своего основного воззрения стараются выяснить роль человечества в ипостасном соединении природ.
Свое учение об έν θέλημα монофелиты оправдывают тем, что хотя Христу и усвояется «одно действование целого» (μία ενέργεια όλου), слагающегося из трех частей: Божества, разумной души и тела, — но так как «производитель и виновник действования есть Бог, а человечество лишь только орган» (τεχνίτης καί δημιουργός ό Θεός, όργανον δέ ή άνθρωπότης), то действующая воля во Христе только одна, и именно — Божественная (αυτού τό θέλημα έν έστι καί τούτο θεϊκόν)[457]. Эти три положения, впервые высказанные Феодо–ром Фаранским, составляют последнюю основу и действительную сущность монофелитского учения об έν θέλημα, замаскированного учением о μία ένέργεια όλου. Воззрение последующих представителей монофелитизма сводится в существе дела именно к этим трем положениям. Правда, не высказываясь так откровенно, как Феодор, относительно роли человечества, они находят возможным при учении об έν θέλημα трактовать об участии человеческой природы в совершении того, что свойственно Христу, как целому, и говорят об «относительном усвоении» (σχετικν οίκείωσις) Христом человеческой воли[458]. Но ни для кого не темно, что мыслимое ими усвоение человеческой воли немногим чем отличает человечество Христа от несамоподвижного орудия действия его владетеля и in actu почти вовсе даже не осложняет деятельности Божественной воли Слова. «Относительное» усвоение, которое в отличие от «существенного» или природного (ούσιχυδη οίκείωσις [сущностное усвоение]) может быть названо личным и аффектуальным, состоит в том, что «по симпатии, из расположения» мы усвояем себе и лишь видимо переживаем то, что нравится нам в другом, на самом деле сами от того ничего не испытывая[459]: это есть просто приспособление к образу жизни и способу действий другого. Усвоение в этом смысле Христу человеческой воли обозначает не то, что человеческая воля составляет неотъемлемую собственность Христа, как истинного ее владетеля, а просто лишь то, что из любви к человеческому роду, οίχωνομιχώς [домостроительно] Бог Слово применялся к образу жизни и действий людей[460]. Выходя отсюда, легко было прийти к той мысли, что Христос приспособлялся к образу жизни воспринятой Им плоти только по временам, только тогда, когда это было особенно необходимо для осуществления цели воплощения, и именно только «во время спасительных страданий» (έν τω καιρώ μόνω του σωτηρίου πάθους)[461].
Считая совершенно излишним входить в подробное обсуждение так понимаемого усвоения Христом человеческой воли, Максим произносит над монофелитами следующий справедливый приговор. Уча об относительном усвоении человеческой воли, «они превзошли в нечестии самого Севера, будучи более его дерзки на слова (μάλλον ύπεραυδήσαντες), так как он не с таким безрассудством восставал против истины»[462]. Что же касается мнения о временном усвоении человеческой воли, то оно представляет собой верх всех неправд и несообразностей, соединенных с монофелитским учением. «Мысль о том, что только во время спасительных страданий Христос на самом деле явил Себя обладающим двумя волями, полагаю, бездоказательна. Как же это так, на каком основании только в это время, а не прежде? Ведь если Он имел (человеческую волю) тогда, то имел и с самого начала (с того момента), когда сделался человеком, а не потом присоединил; а если не имел сначала, то не имел и во время страданий и лишь призрачно обнаруживал все то, через что мы спасены… Почему же вот так (т. е. только во время страданий), а не иначе? И что за смысл в этом?»[463] Само собой разумеется, что мыслимое монофелитами усвоение человеческой воли Максим простирает и на самую человеческую природу Христа[464].
В подтверждение истинности своего учения монофелиты ссылались на некоторых из достославных отцов и учителей Церкви: выхватывая из их творений отрывочные изречения, вне связи с целым казавшиеся им наиболее выразительно говорящими в пользу их собственного учения, они толковали их по своему, применительно к своим тенденциям. Задача Максима, казалось бы, состояла тут в том, чтобы путем восстановления действительной связи указываемых монофелитами отрывочных выражений выяснить настоящий смысл этих последних. Но Максим этого не делает. Такой апологетический прием имеет отчасти место только относительно изречений Кирилла Александрийского. По отношению ко всем другим Максим пользуется тем же средством борьбы, что при оценке монофелитского учения вообще, а именно: везде говорит о невозможности понимания того или другого места из творений отцов Церкви в усвояемом ему монофелитами смысле, аргументируя ее ложностью тех выводов, какие соединены с таким пониманием. То обстоятельство, что изречения Кирилла Александрийского представляют в этом отношении единственное исключение, может быть понято только при свете известного отношения монофелитизма к учению великого александрийского учителя — отношения, не простирающегося на учение других отцов Церкви, на изречения которых указывали монофелиты.