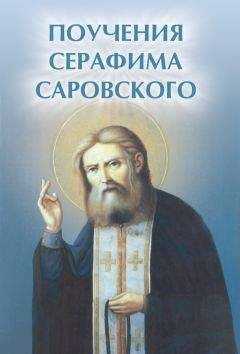С. А. Левицкий - Трагедия свободы
В области воображения, как и в области чувственного восприятия, возможны искажения, «оптические обманы». Человек с «больной» фантазией воспринимает уродливую смесь этих добытийственных образов. Когда же он пытается воплощать эту уродливую смесь, то его поступки приобретают ненормальный характер, нередко переходящий в сумасшествие.
Вообще, воображение — ценнейший, но и опаснейший дар. Сосредоточение внимания на определенных образах усиливает присущую образу тенденцию к воплощению. Поэтому воображение может быть не только могучей творческой, но и стихийной разрушительной силой. Творческий образ, на котором мы сосредоточиваем свое внимание, проникает в область не только сознания, но и подсознания, он может как бы «овладеть» всем нашим существом.
Способность к воображению отлична от способности к волевому усилию. Воображение не находится под прямым контролем воли, и самое трудное, как известно, — это «не думать о белом бычке»[158]. В конфликте между волей и воображением побеждает в конце концов воображение. Воля может победить воображение только в том случае, если она сумеет сделать из воображения своего союзника, а не врага. Поэтому долгое и глубокое сосредоточение на мучительных картинах, представляемых в воображении, невольно толкает наше существо на мазохистские или садистские поступки, даже если этим поступкам противится наша сознательная воля. В то же время сосредоточение на благих образах настраивает душу на высший лад и может дать плод в благородном или героическом поступке. Воображение может сделать нашу волю рабом, оно может изнутри подчинить себе волю. Но в то же время в своей основе воображение есть дар свободы и может иметь освобождающий эффект. Обычно это понимается в смысле «бегства» от банальной реальности в мир сказочных фикций… «И в нашей власти остается молиться сказкам золотым». «Знаешь, в тишине хорошо бывает помечтать». Бедная реальность обычно дает пищу богатому воображению. Понимая фантазию как средство бегства от реальности и перенося это понимание в область религиозной психологии, Фейербах изрек свой знаменитый афоризм: «Только бедный человек может иметь богатого Бога»[159].
Но такое понимание воображения — как раз не творческое и подразумевает приятное злоупотребление им, а не его подлинное проявление. Конечно, бегство от реальности в мир сказочной фантазии дает временную иллюзию освобождения. Но иллюзорность такого «освобождения» сводит на нет реальный освобождающий эффект.
Освобождающий эффект воображения заключается в том, что оно возвышает нас над окружающей реальностью, или в том, чтобы приобщиться «мирам иным», или в том, чтобы мы осуществляли в реальности «восхищенные» нами образы.
Именно благодаря воображению человек «не раб» действительности, а может возвышаться над ней, творить новую действительность. Воображение есть живой орган свободы. Воображение есть победа над косностью бытия, над косностью нашей натуры.
Но царственный дар воображения лишь тогда дает благие плоды, когда воображение выполняет свою первичную творческую функцию. Если же, как это часто бывает, воображение становится иллюзорным убежищем неудачников, если оно только псевдокомпенсирует нашу реальную неполноценность — тогда создаваемые воображением иллюзии делают нас рабами нас возвышающих обманов. «Психоанализ воображения» имеет в виду именно такие патологические искривления воображения, но бессилен дискредитировать его первичную творческую сущность.
Созданные творческим воображением образы вовсе не «субъективны». Они приобретают объективное значение, над личную психологическую реальность. Образы Фауста, Гамлета, леди Макбет, Жана Вальжана, Онегина, Печорина, Обломова, Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова, Алеши, старца Зосимы составляют психологическое Достояние всего культурного человечества[160]. Если мы примем афоризм Юнга: «Действительно все, что действует», то эти образы удовлетворят такому пониманию действительности, т. е. объективности. Каждый представляет себе их по–своему, но, питаясь творческим родником классиков, Мы воссоздаем в нашей душе образ, как–то приближающийся к первообразу. Сила этих образов в том, что они выражают реальные тенденции сущего, воплотившиеся в психическом бытии. Они суть «идеи–силы» в образе неповторимого человеческого лика. Они существуют онтологически, хотя род их бытия лишен плоти и крови. Но не лишает ли всесильное время плоти и крови лиц, нам дорогих, о которых мы храним тем не менее нерукотворную память? Не оказал ли образ Ивана Карамазова большее влияние на воображение человечества, чем миллионы безродных Иванов? Мы говорим: «Да, это —* создания гениальной фантазии». Но создания гениальной фантазии тем и гениальны, что они черпают свою незабываемость и свою впечатляемость из платонической сферы бытия, из сущего средоточия образов, жаждущих воплощения и ждущих «гениальной» фантазии, которая облекла бы их в психическую плоть. Иначе говоря, гениальность заключается не в силе чисто субъективной фантазии — тогда многих сумасшедших нужно было бы назвать «гениальными», — а в способности гения вознестись в мир творческих первообразов и «восхитить» их, облечь их в художественную плоть.
То же самое можно сказать о мифах, которые суть, по словам В. Иванова, «первосуждения, где интеллигибельный субъект соединен художественной связью с чувственным предикатом»[161].
Всякое творческое содержание фантазии объективно даже в том случае, если воображающий лишен художественного дара и хранит свой образ лишь «про себя», подобно тому как объективен любой наш поступок, хотя бы никто в мире, кроме нас, не знал об этом поступке. Художественная сила образов, созданных классиками, только ярко иллюстрирует объективность содержаний творческой фантазии. Мы намеренно говорим «содержаний», а не «созданий», так как воображение, с высшей точки зрения, не «создает», а «открывает». Впрочем, в воображении есть и собственно созидательный элемент: это — облечение восхищенных образов в художественную плоть. Но идея образа предшествует образу идеи. Конечно, любой творец пользуется при этом своими субъективными психическими ассоциациями, когда он хочет «запечатлеть» «увиденный» им образ в красках, в звуках, в слове. Поэтому легко понять нашу мысль превратно: будто бы «восхищение» образа не носит творческого характера и будто сам художник не творит, а лишь пассивно воспринимает. Но само восхищение образа есть уже творческий акт, ибо предполагает чуткость и внимание к сфере сущего, кроме того, оно вносит в бытие новизну (черпая эту новизну из «сущего»). Недаром говорится: гений — это внимание[162].
Но и само облечение образа в плоть (пусть из хранимого в душе материала) есть уже создание никогда в мире не бывшего и, мало того, нередко предвосхищающего имеющее совершиться. Оскар Уайльд прав в том, что художественные образы нередко предвосхищают реальную жизнь и имеют пророческое значение[163]. Но они могут предвосхищать только потому, что сами пребывают в надвременной сфере. Художник как бы слышит «музыку сфер», не слышимую простыми смертными. Тайна творчества заключается не только в способности к «живейшему восприятию идей и образов» (определение вдохновения Пушкиным[164]), но и в мучительной черновой работе по закреплению и воссозданию воспринятого. Созерцание есть основа творчества — и об именно этом часто забывают в нашу «активистическую» эпоху. Но одного созерцания мало для творчества, и в категорическом утверждении необходимости упорной, подчас кропотливой работы — правда другого афоризма: гений — это терпение.
Вознесение в мир объективно сущих «воображаемостей» освобождает наш дух от царства «данностей». Но одно это вознесение, без нисхождения с «восхищенным» образом и мучительной работы по его увековечению, превращает свободу воображения в чисто отрицательную свободу. Положительная свобода воображения достигается через мучительное воплощение образа в материале мировых данностей.
Путь творчества как бы переставляет порядок боговоплощения: сначала — вознесение, затем — Голгофа и в результате — запечатленный, нерукотворный образ, обращенный ко всем и принципиально понятный всему человечеству.
В этой апологии творчества, в творческом понимании воображения — осуждение буддийского понимания воображения. Там — уход от мира, самопогружение в Нирвану[165], здесь — мучительные роды, завершающиеся «улыбкой младенца», благоухание выстраданного и новорожденного образа. «Роза и крест»[166] — такова тайна искусства.
Таким образом, воображение изначально свободно и есть живой орган осуществления исконной свободы духа. Но свобода эта обязывает к принятию на себя бремени творческого тернистого пути. Круг творчества должен быть завершен. Вознесение и нисхождение — два его полюса. И причащение бессмертию — его награда.