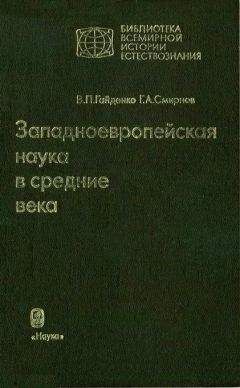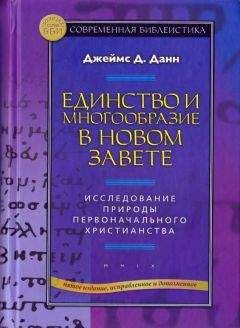Жозе Сарамаго - Евангелие от Иисуса
Глубокой ночью чей-то стон разбудил Марию. Она подумала было, что простонала сама, во сне, но стон прозвучал снова, и на этот раз громче. Осторожно, чтобы не потревожить дочек, приподнялась, оглянулась по сторонам, но светильник горел так тускло, что мальчиков она не увидела. Кто же из них? – подумала она, хотя сердце уже подсказало ей, что стонал Иисус. Бесшумно встала, сняла висевшую у притолоки коптилку, подняла ее над головой, чтобы свету было больше, оглядела спящих сыновей: Иисус мечется и бормочет, словно его мучает кошмар, и, конечно, ему снится отец, рано в его годы видеть то, что видел он сегодня, – смерть, кровь, пытку. Мария подумала, что надо бы разбудить его, прекратить это мучение, но делать этого не стала, не хотела, чтобы сын рассказал ей свой сон, и тотчас позабыла об этом, заметив на ногах Иисуса отцовские сандалии. Это вывело ее из себя – что за дурацкая мысль, что за неуважение – надеть их, да еще в самый день его смерти! Она повернулась к циновке, не зная уж, что и думать: быть может, Иисус оттого, что лег спать в отцовой рубахе и сандалиях, следовал во сне роковой стезей Иосифа, повторяя весь его путь от порога до креста, и, стало быть, вошел в мир мужчин, к которому и так принадлежал по Божьему Закону, но где теперь получал новые права – право наследства, пусть даже все оно состояло из ветхой рубахи да стоптанных сандалий, и право снов, пусть даже в снах этих увидятся ему последние шаги отца по земле. Не думала Мария, что Иисусу может сниться что-то иное.
Утро выдалось ясным, с безоблачного неба жгло и сияло солнце, и можно было не опасаться нового дождя.
Мария вышла из дому рано, вместе с теми сыновьями, кто по возрасту уже ходил в школу, и с Иисусом, который, как уже было сказано, обучение свое окончил. Она отправилась в синагогу сообщить о смерти мужа и о том, в сколь тяжких обстоятельствах она оказалась после того, как над телом Иосифа, как и над прочими несчастными, прочитали заупокойные молитвы, и, хотя и место было неподходящим, и времени на это мало, по числу этих молитв и по содержанию их можно было сказать, что проводили мужа в последний путь, как велит обряд. Возвращаясь домой в сопровождении старшего, подумала Мария, что вот удобный случай спросить его, зачем надел он отцовы сандалии, но в самый последний миг удержалась, боясь смутить сына: скорей всего, Иисус не сумеет объяснить ей это и, смутясь, почтет себя в глазах матери униженным своим поступком, ибо поступок этот никак нельзя вывести из обыденных причин, вроде того, что мальчик проснулся ночью и, почувствовав голод, поднялся и съел ломоть хлеба, а будучи застигнут за этим, на голод этот мог бы и сослаться, но история с сандалиями в эти рамки не укладывалась, если не считать, что мучил его иной голод, о котором нам с вами знать не дано. Тут Марии в голову пришла другая мысль: Иисус отныне – старший в роду и в доме, а потому она, мать, зависящая от него теперь, решила, что правильно будет выказать ему должное уважение и подобающее внимание и спросить, что за сон мучил его ночью. Тебе отец снился? – спросила она, но Иисус притворился, что не слышит, и даже отвернулся, однако мать повторила настойчиво: Отец? – и не ожидала, что сын сначала ответит: Да, и тотчас, следом:
Нет, и что в глазах у него появится такое выражение, будто вновь предстал ему казненный Иосиф. Они некоторое время шли молча, а когда вошли в дом, Мария села прясть, подумав, что теперь, пожалуй, надо будет, чтобы прокормить детей, работать больше, отдавая часть на продажу, раз уж есть у нее умение и ремесло.
Иисус же, взглянув на небо, убедившись, что погода по-прежнему хороша, подошел к отцовскому верстаку, стоящему под навесом, и стал одну за другой осматривать начатые и неоконченные поделки, а потом – инструменты, и сердце Марии исполнилось ликования при виде того, с какой ответственностью сын ее с первого дня отнесся к новым своим обязанностям. Когда вернулись из школы младшие и началась общая трапеза, лишь очень зоркий взгляд заметил бы, что всего несколько часов назад семья оплакивала потерю своего главы, мужа и отца, и если черные брови Иисуса, сурово сведенные над переносьем, выдавали тайную думу, то остальные, включая Марию, казались спокойны и безмятежны, ибо сказано: Горько плачь и стенай от душевной муки, соблюдай траур по усопшему день или два, смотря по тому, кем приходился он тебе, ибо так положено меж людьми, а потом утешься в своей печали, и еще сказано: Не вверяй сердце свое скорби, но отгоняй ее, помни, что и ты в свой срок уйдешь туда, откуда нет возврата, и ничем уже не поможешь ты покойному, себе же причинишь вред. Смеяться еще рано, но придет время и смеху, ибо дни сменяются днями, и чередой идут времена года, и лучший наказ дает нам всем Екклесиаст, похваливший веселие, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться; это сопровождает его в трудах во дни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем. Ближе к вечеру Иисус с Иаковом забрались на крышу и заделали соломой, залепили глиной щели, сквозь которые целую ночь капала вода, и не стоит удивляться тому, что мы в свое время не упомянули о таких низменных и бытовых подробностях нашей повседневности, – смерть человека, виноват он или нет, всегда должна преобладать над всем прочим.
И опять наступила ночь, предшествуя рождению нового дня, и семья, отужинав чем Бог послал, улеглась на циновки, отошла ко сну. Перед рассветом Мария проснулась в страхе, но не от дурного сна – он привиделся Иисусу, и тот, надрывая душу, застонал, заплакал так громко, что разбудил даже старших детей, – малыши-то в невинности своей спали по-прежнему крепко. Мария бросилась к Иисусу, который, вскинув и выставив перед собой руки, будто отбивался или заслонялся от занесенных мечей, от уставленных копий, но движения его постепенно замирали, словно нападавшие оставили его или жизнь иссякла. Он открыл глаза, крепко вцепился в склонившуюся над ним мать, как если бы не был почти взрослым, главой семьи, мужчиной: он плачет, как испуганный ребенок, и мы, дурни, не хотим признавать, что изболевшееся сердце успокаивается слезами.
Что с тобой, что с тобой? – с тревогою повторяла Мария, но Иисус не отвечал – не хотел или не мог, ибо рот его был сведен судорожной гримасой, и вот уж в ней-то нет ничего детского. Скажи, что тебе приснилось, настаивала Мария и подсказала, торя сыну дорогу: Отец, да? Но Иисус, резко мотнув головой, разжал пальцы, откинулся на циновку: Ничего, ничего, ложись, – и, показав на братьев: Пусть спят, все хорошо. Мария вернулась на свое место, между двумя дочерьми, но, пока совсем не рассвело, лежала с открытыми глазами, чутко прислушиваясь и каждую минуту ожидая, что страшный сон повторится, и что же это за сон такой, от которого сын впал в такую тоску, но все было тихо. Не подумала она, что сын мог вообще не сомкнуть глаз, чтобы не привиделось опять то страшное, а размышляла о том, что первенец ее всегда спал крепко и покойно и что кошмары стали мучить его лишь со дня смерти отца.
Господи, взмолилась она, пусть не приснится ему это еще раз, и здравый смысл, успокаивая ее, подсказывал, что сны нельзя ни передать, ни получить по наследству, но было это заблуждением, ибо людям нет необходимости пересказывать друг другу свои сны, чтобы детям снилось то же и в те же часы, что и отцам. Наконец занялась заря, осветилась щель в двери. Мария, забывшаяся сном под утро, открыла глаза и увидела, что место Иисуса пусто. Где же он? – подумала она, вскочила, открыла дверь, выглянула наружу и увидела сына, – обхватив голову руками, локти уперев в колени, он недвижно сидел под навесом на куче соломы. Дрожа от утренней прохлады, но также, хоть и не отдавая себе в этом отчета, от того, каким одиноким показался ей сын, она приблизилась к нему, спросила: Тебе нездоровится? – и тот поднял голову: Нет, я здоров. Тогда что же с тобой такое? Сны. Сны? Верней, один сон, он снился мне и прошлой ночью, и нынешней. Ты видел отца на кресте? Я же сказал тебе, что нет, я его не видел. Ты сказал, что тебе снился отец. Снился, но я его не видел, но точно знаю, что он был рядом. Что же такое страшное привиделось тебе? Иисус ответил не сразу, поглядел на мать растерянно, а она почувствовала, будто чьи-то пальцы стиснули ей сердце: ее сын, ее первенец, с еще детским лицом, с покрасневшими от бессонной ночи глазами, с первым нежным пушком над губой и вдоль щек, сидел перед нею, и связь их нерасторжима вовек.
Расскажи мне все, попросила она, и он наконец заговорил: Снилось мне, что я в каком-то городе, но это не Назарет, а со мной и ты и не ты, потому что у той женщины, что во сне была моей матерью, другое лицо, а вокруг другие юноши, моего возраста, а сколько их числом, не помню, и их матери, и всех нас собрали на площади, и мы ждем солдат, которые нас убьют, и они все ближе и ближе, но мы их не видим, только слышим, как стучат по дороге копыта их коней, но мне почему-то не страшно, я знаю, что это всего лишь дурной сон и больше ничего, но вдруг сознаю, что вместе с солдатами идет и отец, и оборачиваюсь к тебе, ища защиты, хоть и не уверен, что это ты, а все матери уходят прочь, и мы остаемся одни, только мы уже не юноши, а совсем маленькие дети, я лежу на земле и плачу, и остальные тоже ревут, хотя только мой отец идет с солдатами, и мы все глядим в проулок, что ведет на площадь, и понимаем, что они вот-вот появятся, и ждем, а их нет и нет, хотя шаги все ближе, вот-вот, вот-вот, а их все нет, и тут я вижу, что я такой, как сейчас, но нахожусь внутри маленького ребенка, и он – это тоже я, и пытаюсь с неимоверным трудом из него вылезти, но точно связан по рукам и ногам, и я зову тебя на помощь, зову отца, который ищет меня убить, и тут просыпаюсь. Так было и в эту ночь, и в прошлую. Мария задрожала от ужаса, едва лишь сын начал рассказывать, и значение сна было ей невнятно: она понимала только, что сбылись наихудшие ее опасения – вопреки всякому здравому смыслу и доводам разума Иисус унаследовал свой сон от Иосифа, может, и были между этими снами различия, но суть в том, что отцу и сыну, каждому на своем месте и в свое время, снилось одно и то же. И еще сильней ужаснулась она, когда Иисус спросил: А что за сон снился отцу всякую ночь? Ну, у любого бывают дурные сны. Нет-нет, ты знаешь, о чем я. Не знаю, он мне его не рассказывал никогда. Ты не должна скрывать правду от меня, я ведь твой сын. Не нужно тебе знать о нем, это не к добру.