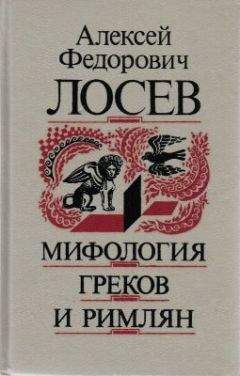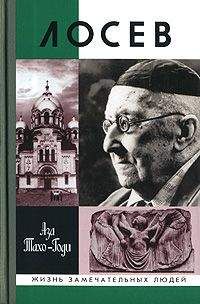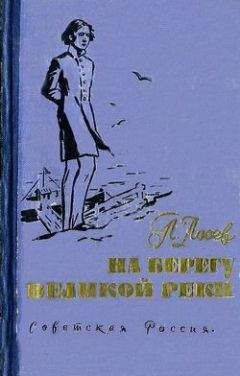Алексей Лосев - Владимир Соловьев и его время
Эта вступительная лекция Вл. Соловьева, читанная в 1880 году в Петербургском университете, формально вполне может считаться завершением всего раннего периода его теоретической философии. Но нельзя удержаться от того, чтобы не отметить ее оригинальную и свежую значимость даже для нашего настоящего времени, то есть через целое столетие после ее прочтения. Такова внутренняя темпераментность ее содержания, и такова эффектная выразительность ее ораторского пафоса.
6. «Теоретическая философия». В теоретической философии Вл. Соловьева является фундаментальным и решающим фактом то, что с этой проблемой философ никогда не расставался в течение всей своей жизни, несмотря на самые разнообразные интересы. Вл. Соловьев занимался вопросами и церковными, и литературными, и политическими, и даже мистическими. Но интерес к теоретической философии его решительно никогда не покидал, а наоборот, незримо играл свою огромную роль. Самым ярким доказательством такого положения дела является то, что чисто теоретической проблематике, как мы видели, были посвящены как первые труды Вл. Соловьева, так и его последние труды. Наряду с мистикой «Трех разговоров» мы имеем не только огромный и чисто теоретический труд «Оправдание добра» (1899), но и трактат тех же лет (1897—1899), который так и озаглавлен «Теоретическая философия».
В этом последнем труде первая статья носит название «Первое начало теоретической философии» (IX, 89—130). Всегда синтетически мыслящий философ, конечно, и тут начинает с нравственности, которая, по его воззрению, вместе с теоретической философией не может не базироваться на учении об истине: «…в мериле истины заключается понятие добросовестности: настоящее философское мышление должно быть добросовестным желанием достоверной истины до конца» (IX, 97).
После обстоятельного анализа методического сомнения Декарта (IX, 108—123, 127—128) автор утверждает, что если остановиться на ступени факта, то наши психические переживания и вообще состояния нашего сознания, нашего «я» — это и есть первичный и непреложный факт. Но все дело в том и заключается, что этот факт говорит нам не столько о некоей данности, сколько о некоей заданности. Наше сознание непрерывно ставит бесконечные вопросы, и невозможно остановиться на данных сознания только как на некоем факте, хотя бы и непреложном. В нашем сознании нечто является. Но что же именно в нем является, вот вопрос, с которого начинается теоретическая философия (IX, 129—130), если она хочет добросовестно стремиться к достоверной истине.
Во второй статье, озаглавленной «Достоверность разума» (IX, 130—147), исходя из факта психического переживания, Вл. Соловьев утверждает, что это переживание говорит не просто о непосредственно–единичных представлениях. Все единичное возможно только в том случае, когда оно является разновидностью чего‑нибудь общего, или всеобщего. Если мы мыслим то, что называем волной или морем, или временем, то это значит, что все такого рода предметы тут же мыслятся нами и в обобщенном виде. Если мы говорим, это есть морская волна, то это значит, что тут же мы мыслим и. морскую волну вообще, независимо от того, существует ли эта морская волна объективно или не существует (IX, 133— 139). Существенная роль в процессе мышления принадлежит тому, что мы пользуемся не только своей памятью, но еще и обозначаем имеющийся в нашей памяти предмет определенным словом, которое как раз и позволяет перейти от единичности к всеобщности (IX, 142—146). Однако здесь же возникает вопрос: неужели и эта мыслимая нами всеобщность есть только формальный результат самого же субъективного процесса мысли?
Ограничиться здесь рамками субъективности нельзя потому, что чисто формальная обобщенность мысли сделала бы эту мысль вполне бессмысленной и бесцельной. Если нет этой уже не формальной обобщенности, то осталось бы неизвестным, почему наши мысли идут так, а не иначе, и почему наше мышление, если оно не простая нелепость, всегда преследует какую‑нибудь объективную цель, имея для нас значение вполне осмысленное и целенаправленное, то есть предполагает наличие объективного замысла, а не просто субъективной мысли (IX, 146—147). Но тут мы и подходим к проблеме разума как именно объективно достоверного разума.
Эта проблема и решается в третьей статье под названием «Форма разумности и разум истины» (IX, 148—166). Как простая психическая наличность факта невозможна без формального обобщения этого факта, так формально–логическая обобщенность этого факта возможна только при наличии дальнейшего обобщения. Действительно, если существует формальная логичность непосредственного факта, то это значит, что есть нечто уже не только формальное, но и содержательное. И если есть субъективная логичность, то, следовательно, есть и объективная разумность. Нельзя мыслить субъекта без объекта, и нельзя мыслить формы без содержания, и нельзя мыслить субъективной логики без объективно и творчески действующего разума. Кроме того, поскольку действительность бесконечна, то бесконечен и творческий разум, ее отражающий, а поскольку наше мышление не сразу достигает истины, то оно всегда есть творческое движение. Мышление, таким образом, есть становящаяся разумность (IX, 164—165).
Подводя итог всем этим рассуждениям Вл. Соловьева в трактате «Теоретическая философия», необходимо сказать, что в существенном смысле они мало чем отличаются от философских рассуждений раннего Вл. Соловьева. Однако здесь философ не ставит всех теоретических проблем в их полноте. Но он легко мог бы сделать определенные дополнения не только без всякой противоречивости, а, несомненно, еще и в виде поясняющих дополнений. В трактате «Теоретическая философия» нет проблемы Запада и Востока, нет мистической проблематики богочеловечества и нет стремления во что бы то ни стало дать законченную философскую систему. Ясно, однако, что здесь не противоречие с первыми философскими трактатами, а только их гносеологически–онтологическое сужение и специализация, способствующие более четкому выделению некоторых положений (например, о вечных субстанциях в отличие от относительных субстанций в инобытии).
О том, что Вл. Соловьев и в этом же предсмертном 1899 году придерживался своей старой философской системы, которую он сам же именовал мистической, свидетельствует незадолго до того (1897) написанная статья «Понятие о Боге. (В защиту философии Спинозы)». Здесь Вл. Соловьев ссылается на такие религиозно–философские системы, которые мы находим у александрийских платоников и еврейских каббалистов, отцов церкви и независимых мыслителей, персидских суфи и итальянских монахов, у Николая Кузанского, Якоба Бёме, Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника и даже в знаменитом религиозно–философском сборнике «Добротолюбие» (IX, 23, 17).
В атмосфере так понимаемой теоретической философии невольно возникает вопрос, почему же вдруг в трактате «Теоретическая философия» нет почти никакого мистицизма и изложение ведется в тонах традиционной для второй половины XIX века академической философии. По этому интересному и, нужно сказать, не очень легкому вопросу необходимо заметить, что Вл. Соловьев, несомненно, оказался здесь под некоторым влиянием, правда, только терминологическим, расцветающего тогда в Европе неокантианства, марбургского и фрейбургского. Неокантианство жесточайшим образом обрушивалось на всякого рода психологизм и требовало замены психологических теорий чисто логическими теориями смысла и понятия. Это вполне соответствовало исконным взглядам Вл. Соловьева, но в данном трактате этот антипсихологизм он выразил в тонах тогдашней академической терминологии. Неокантианцы, далее, именовали слепое эмпирическое представление «данностью», противопоставляя его смысловым и понятийным конструкциям как сфере «заданности». Эта «заданность» была не только смыслом слепо констатированного факта, но и таким смыслом, который в самом себе таил необходимость своего развития, и притом бесконечного. Вл. Соловьев и здесь воспользовался модной тогда неокантианской терминологией, которая тоже соответствовала его исконным философским методам. Но все эти «заданности», «замыслы» и творчески функционирующие понятийные бесконечности у неокантианцев привлекались для построения их логицизма, или панлогизма. А вот от этого Вл. Соловьев как раз и был, безусловно, далек, так что написание им трактата «Теоретическая философия» было вызвано исключительно только терминологическим влиянием модного в те времена неокантианства в немецких университетах. По существу же, между безусловным реализмом или, вернее сказать, объективным идеализмом Вл. Соловьева, с одной стороны, и логицизмом тогдашнего неокантианства — с другой, не было ровно ничего общего.
К сожалению, один из старых маститых идеалистов, именно петербургский неокантианец Александр Введенский, в своей специальной работе о «мистицизме» и «критицизме» Вл. Соловьева[130] допустил весьма большую путаницу в этом серьезном вопросе, о которой мы сейчас должны дать себе полный отчет.