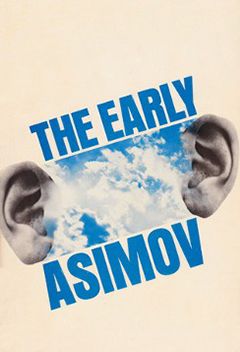Леонид Бежин - Дивеево. Русская земля обетованная
В истории церкви были люди, утверждавшие, что Сын меньше Отца и что Марию, мать Иисуса, нельзя называть Богородицей, поскольку Бога невозможно родить. Это были осмысленные утверждения, логичные и рационально выстроенные, но совершенно неверные, если допустить, что есть нечто выше логики, выше всех наших умозрений. Иными словами, «превыше всякого ума». Если допустить… но можно и не допускать, полагаясь только на собственный ум. Конечно, можно, но только вдруг… мало ли этих вдруг – прихватило, скрутило, онемело, отнялось, и вот тут-то ум наш ищет некоей опоры, надежды, мечется в страхе и готов отказаться от всех притязаний, лишь бы только никакие вдруг больше не повторялись и все вернулось на круги своя. А если отказаться от притязаний, что же останется? Вера. Да, пусть даже шаткая, пугливая, но все-таки вера, не нуждающаяся ни в каких аргументах и доказательствах.
Когда-то принято было разделять познание и веру, но теперь мы начинаем осознавать, что вера – это тоже способ познания. По вере даются такие знания, которые иным способом не обретешь, не получишь. Знание будущего. Того, что происходит в другой точке пространства. Или в человеческой душе.
Император Александр I у преподобного Серафима Саровского
Получая письма, Серафим Саровский не распечатывал, надрывая конверт, и не читал их: ему заранее было известно, о чем в них писалось. Принимая посетителей, он отвечал не на их слова, а на мысли. Примеров этому множество – приведем лишь один. «После этого (предыдущего разговора. – А.Е.) я спросил: учить ли детей языкам и прочим наукам? И он отвечал: «Что же худого – знать что-нибудь».
Я же, грешный, подумал, рассуждая по-мирскому, что нужно, впрочем, ему самому быть ученым, чтобы отвечать на это; и тотчас же услышал от прозорливого старца обличение: «Где мне, младенцу, отвечать на это против твоего разума? Спроси кого поумней» (из воспоминаний Богдановича).
Сопоставим: что же худого знать что-нибудь. И – где мне, младенцу, отвечать против твоего разума? В первой фразе – спокойное, мудрое утверждение. И в самом деле – что худого. И не только что-нибудь, но и многое, всевозможные науки, языки и наречия. Во второй – ирония, вызванная тем, что разум слишком возвеличился, вознесся. И был посрамлен.
Конечно, в тот момент, беседуя со старцем Серафимом, автор воспоминаний и не осознавал, что он грешный и рассуждает по-мирскому. Это уж потом… ему кое-что открылось… и он вписал из благочестивых побуждений или потому, что так полагается. А тогда у него просто мелькнула мысль, этакая мыслишка мимолетная, но язвительная, с подковыркой: мол, нужно ему самому быть ученым, чтобы… А старец-то, неуч, младенец по разуму, эту мысль и прочел. Никакой доктор, магистр, академик не сумел бы, а он… как по-писаному. Ну, и какой же вывод? Что ж вы хотите, старец Серафим – святой… Да, так, но этого мало. Надо сказать иначе. У доктора, магистра, академика развит ум – благодаря многолетним занятиям наукой, сам же он капризный, вздорный, придирчивый старичок, домашний деспот, муштрующий горничных и прислугу. Словом, дрянь человечишко. Серафим же совершенен как личность, все лучшие человеческие свойства – кротость, любовь, доброта в нем предельно развиты, а поэтому не только ум отточен, но им обретены дары, позволяющие преодолевать пределы человеческих возможностей. Оказываться одновременно в разных точках пространства. Зависать в воздухе при молитве. Беседовать с ангелами и совершать прочие чудеса. Вот где истинное Возрождение! Вот подлинный гимн человеку! Вот чем можно гордиться, казалось бы, но нет… возгордись, и все рухнет, рассыплется в прах, и ангельский лик обернется кикиморой. Нет, тут другое – смирение, отсечение собственной воли – монашеский путь…
Глава четырнадцатая. Вдохновение и благодать
Итак, монашество – это путь, как было сказано. Не состояние, статичное и неподвижное: я – монах, и в этом мое неизменное свойство, раз и навсегда мною обретенное, а – движение. Я монах, но я всегда разный, во мне постоянно что-то меняется, обновляется, преображается, ведь и Христос преобразился, поднявшись с тремя апостолами на гору Фовор (или Ермон, как утверждают некоторые комментаторы евангелий). Вот и я, монах, преображаюсь, насколько это дано, какой мерой отпущено. Во мне не пребывает, а прибывает, поскольку я тоже поднимаюсь вверх. Вверх по лестнице с множеством ступеней или лествице, как говаривали раньше («Лествицу» Иоанна Серафим перечитывал много раз). И она ведет от одной монашеской практики к другой. Практики или – даже скажем так, хоть это и рискованно, – дисциплины…
Дисциплины… все-таки верное ли, уместное здесь слово? Не вносит ли оно нечто излишне ученое, рациональное, отдающее профессорской кафедрой, стучащим по грифельной доске мелком? Ведь, казалось бы, затепли лампадку, встань перед ликами святых в золоченых окладах, молись и клади поклоны – истово, со старанием – какая же тут дисциплина? Ан нет, не все так просто: поклоны-то ведь надо считать, а с этого и начинается та самая дисциплина ума. Без счета поклонишься раз-другой-третий, и усердие иссякнет, воля ослабнет, мысли разбегутся и вся духовная работа пойдет насмарку. Счет не ради результата (сколько я там насчитал?), а ради целостного, осмысленного процесса – чтобы не нарушился, не прервался.
Это очень важно для подвизающихся, особенно поначалу. Собственно, на то у монаха и четки, чтобы считать, счет же и есть самая настоящая дисциплина, строжайшая школа, если угодно – сродни тем, что преподаются на кафедрах. И монастырь по напряжению мысли, исканиям истины, горению духа – университет, истинный университет (тем более что университеты монашествующих из истории нам известны).
Но здесь нельзя и не добавить другое: монашество – творчество, недаром оно подчас именует себя художеством. Художеством прежде всего в узком значении – как особым способом произнесения Иисусовой молитвы, соединения слова с дыханием и ритмом сердца (об этом уже вкратце упоминалось), но и в широком смысле монашество – подлинное творчество. Могут возразить: какое же творчество – затвориться в келье, лишить себя всех радостей жизни, читать лишь Псалтырь и молиться? К тому же писатель, художник, музыкант тоже может терпеть лишения, страдать, испытывать муки от сознания несовершенства достигнутого, но как награда его посещает вдохновение. Нежданно-негаданно, вдруг… Оно нисходит, и оно же возносит, словно на невидимых крыльях. И тогда пишется легко и свободно, краски непроизвольно ложатся на холст, сами начинают звучать мелодии. Может быть, греховно-обольстительные, исполненные тонкого соблазна (как в музыке Скрябина), да, но это сейчас не обсуждается. Важно иное: на волне вдохновения то, что не получалось, казалось неудачей, срывом, свидетельством собственного бесплодия, оборачивается счастливой удачей, смелой находкой.
И вообще становится удивительно хорошо – не только писать, но и дышать, жить, чувствовать, смотреть на мир. Смотреть и по-детски изумляться. В окне – береза, едва остывшая от золотистого пожара, сбросившая листья и покрытая розовым от солнца инеем, – тоже хорошо до умиления, до невольных слез, а ведь раньше-то… ну что береза… береза и береза: не тюльпаны же зимой зацвели. Поэтому вдохновение иногда называют измененным состоянием сознания. Что ж, пожалуй, так. Береза осталась прежней, а состояние изменилось, и оно придало ей нечто невыразимо прекрасное, исполненное несказанного очарования.
Итак, у художника вдохновение, а что у монаха? – спросим мы, и тут нас посетит некоторого рода замешательство. Позвольте, но мы, собственно, ответили на этот вопрос. Измененное состояние сознания – ведь это выражение из монашеского лексикона. Может быть, не столь православное по своей окраске выражение (так же, как и монашеский университет), но все же, все же… православию не столь уж чуждое, если в суть-то вникнуть, самую суть. Ведь у православных тоже состояние сознания меняется под воздействием беспрерывных монашеских практик или дел христианских, как называл их Серафим. На православного тоже нисходит, но не вдохновение (от него недалеко и до одержимости), а – благодать. В этом вся разница: вдохновение – хоть и окрыляющий, но смутный порыв, по словам Гете. Благодать – прозрачна, высветлена и очищена, как февральская лазурь. Вдохновение может вызвать и глоток залпом выпитого молодого вина из тяжелого серебряного кубка, и отдаленные переборы гитары, и каштановый локон красавицы в медальоне, и подаренный внезапно поцелуй, благодать же с этим совершенно несовместима.
Какое вино! Какая гитара, а уж тем более поцелуй. Благодать – от иного…
Благодать дается не для того, чтобы краски ложились на холст, написанные строчки – на бумагу, нотные знаки – на страницу партитуры, – нет, это было бы слишком узко. И тем более благодать – не настроение, мимолетное и изменчивое. Благодать посылается как знак небесной сопричастности человека, оттуда, из высших сфер, из ангельского мира. Ее воздействие на человека таково, что весь он меняется, преображается своим естеством. Становится иным по составу, сверхприродным, сверхъестественным. В этом состоянии он и прозревает, провидит то, что недоступно обычному зрению. Он пророчествует, недаром в Символе Веры о Святом Духе сказано: «глаголавша пророки».