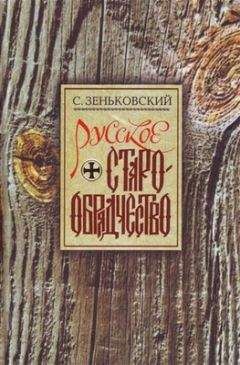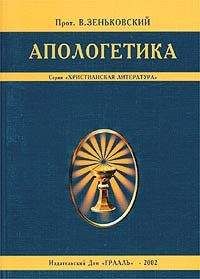В. В. Зеньковский - Русские мыслители и Европа
* *
Л. Н. Толстой подходит к проблемам культуры совершенно не так, как другие наши мыслители. Он никогда не находился под очарованием Запада, хотя впоследствии и разыскивал в себе остатки веры в прогресс. Очень рано — без сомнения, не без влияния Руссо2 — Толстой ощущает в современной цивилизации нечто искусственное, условное и фальшивое. В ранней повести «Казаки» он замечает о своем герое: «Чем меньше было признаков цивилизации в народе, тем свободнее чувствовал он себя». Это противопоставление жизни естественной и свободной всему тому искусственному, стеснительному и фальшивому укладу, какой несет с собой цивилизация, — очень глубоко у Толстого и с известными модификациями длилось у него до конца. Но, конечно (как сам он говорит об этом в «Исповеди»), проблемы и идеалы цивилизации не
' Орест Миллер. Славянство и Европа. Стр. 248, 247*. Для нашей темы книга эта малоценна.
2 По сообщению одного французского автора (говорившего лично с Л. Толстым на эту тему). Толстой прочитал всего Руссо: «Я более чем восхищался Руссо, — признавался Толстой, — я боготворил его. В 15 лет я носил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста».
90
были ему совершенно чужды; с известным правом можно было бы охарактеризовать историю духовного развития Толстого как борьбу с теми началами европейской цивилизации, которые жили в нем самом. Труднее всего дался ему первый серьезный шаг — именно борьба с верой в прогресс, борьба с той безрелигиозной культурой, которая породила эту веру в прогресс. Дальнейшие этапы борьбы — борьба с социальной, политической, педагогической и религиозной неправдой современной жизни — дались Толстому гораздо легче. Объектом критики Толстого все время была современная цивилизация, из круга которой почти никогда он не выделяет и Россию, но мы найдем и у Толстого черты, сближающие его с славянофилами в их вере в особые пути России и славянства.
Первым ярким и страстным протестом против цивилизации Запада, против ее бездушия и фальши, является небольшой рассказ «Люцерн», относящийся к 1857 году, т. е. к первому путешествию Толстого за границу (ему тогда было 29 лет). Уже Париж оставил у Толстого очень тяжелое чувство — он присутствовал там при совершении смертной казни. «Я понял тогда, — пишет он в «Исповеди», — что никакие теории разумности существующего прогресса не могут оправдать этого поступка». Но внутренняя борьба, начало которой относится, как мы говорили, еще к юности Толстого, этим лишь усиливалась, а не устранялась; отталкивание от «цивилизации», от Запада, как родины этой цивилизации, усиливалось — но не менее сильна была еще и внутренняя связь с цивилизацией. Парижские впечатления были лишь одним из тех «шоков», которые заостряли и форсировали эту борьбу и вели ее к развязке…
Таким же шоком был и тот случай, о котором с таким неподражаемым искусством рассказал Толстой в «Люцерне», — Толстому пришлось жить в отеле с многочисленными туристами–англичанами, и уже здесь у него стало накопляться «чувство подавленности» от всех тех условностей и строгих приличий, которые заставляют каждого уйти в себя, «лишают людей одного из лучших удовольствий жизни — наслаждения человеком». Случай привел Толстого к площади, где пел песни один странствующий тиролец; эти песни были так хороши, так трогали душу, что покоряли даже бесчувственных людей, словно пробуждали в них заглохшую, но вечную потребность поэзии. Толпа наслаждалась пением, но когда певец кончил и стал обходить толпу, то все отвернулись и стали смеяться… Это глубоко взволновало и потрясло Толстого: «Мне сделалось больно, горько, а главное, стыдно за маленького человека, за толпу, за себя, как будто я просил денег, мне ничего не дали и надо мною смеялись». «Как вы, — страстно обращается в этом рассказе Толстой к толпе, а через нее ко всему цивилизованному миру, — как вы, дети свободного, человечного народа, вы, христиане, просто люди — на чистое наслаждение, которое вам доставил несчастный, просящий человек, ответили холодностью и насмешкой?» «Отчего этот факт, — спрашивает далее Толстой, — невозможный ни в какой деревне (очевидно, русской! — В. 3.), возможен здесь, где цивилизация, свобода и равенство доведены до высшей степени? Неужели распространение разумной, себялюбивой ассоциации, которую называют цивилизацией, уничтожает и противоречит потребности инстинктивной и любовной
91
ассоциации? И неужели это — то равенство, за которое было пролито столько крови и столько совершено преступлений?» Эти вопросы возникают у него с таким напряжением, с такой болью, что Толстой не в силах остановиться; он с горечью говорит, что «непогрешимый блаженный голос… Всемирного Духа… заглушается в нас шумным, торопливым развитием цивилизации»; еще дальше он говорит, что «воображаемое знание (т. е. цивилизация) как раз уничтожает… первобытные потребности добра в человеческой природе». Толстой смело и безбоязненно идет до конца в своих сомнениях и уже здесь ставит вопрос: «кто мне определит, что такое свобода, что цивилизация, что варварство?»
Пока в Толстом поднимались лишь сомнения, пока закладывались лишь основы его критики, он еще не подошел к своему кризису. Как отзвук настроения, выраженного в «Люцерне», отметим несколько строк в «Войне и мире», где Толстой говорит о «неопределенном, исключительно русском чувстве презрения ко всему условному, искусственному, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира».
С падением крепостного права начинается для Толстого новая знаменательная эпоха. Все те мечты, которые до этого наполняли его, получили возможность реального осуществления, — Толстой работает среди народа (как мировой посредник), создает замечательную яснополянскую школу. Толстой начинает постепенно проникаться народным мировоззрением — его взглядом на землю, на труд. Мотивы руссоизма, жившие раньше в его душе, получают теперь новое развитие, связываются с конкретным народным бытом, и отсюда рождается глубокая тяга к «опрощению», к слиянию с народом и отречению от всей «барской» культуры. Здесь закладываются основы новой критики цивилизации, которой противопоставляется (как позже у Михайловского) не так называемая «естественная» жизнь, а жизнь народа: этот социальный мотив постепенно разрастается в отрицание всей современной культуры как культуры «барской». Толстой, став на этот путь, не останавливается на полдороге — он доходил до того, что писал, например, что «литература, как откупа, есть только искусная эксплуатация, выгодная только для ее участников и невыгодная для народа». Отрицание современной жизни расширялось дальше и дошло до своего апогея в книге «Что такое искусство?», где Толстой отвергает все то, что непонятно народу, отрекается от искусства, недоступного массам. В своем дневнике Толстой записал однажды такую мысль: «Главное бедствие очень культурных людей… — это балласт разностороннего, особенно — эстетического образования», — и хотя сам Толстой до конца своих дней жил интенсивной умственной жизнью, массу читал, но его не покидало ощущение тяжести, идущей от культуры и давящей человека. Погружение в народную жизнь как бы дало ему почувствовать новые силы в себе — ему стало легче, естественнее, — и, конечно, на первом месте стоял здесь непосредственный труд у земли, делавший для него разумным и осмысленным его существование. Тип мышления Толстого испытал на себе глубокое влияние его «народничества», которое усилило в нем некоторые черты его духа, проявлявшиеся и ранее; в частности, «опрощение» оказалось во многом и огрубением и элементаризацией вопросов духа и жизни.
92
Уже в 60–х годах у Толстого развивается борьба с «суеверием прогресса». В одной из ранних педагогических статей (1860) Толстой пишет: «Мы лично считаем движение цивилизации вперед одним из величайших насильственных зол, которому подлежит часть человечества, и самое это движение не считаем неизбежным»'. «Прогресс благосостояния, — читаем там же, — не только не вытекает из прогресса цивилизации, но большей частью противоположен ей… Мы, русские, не имеем никаких оснований предполагать ни того, что мы должны необходимо подлежать тому же закону цивилизации, которому подлежат европейские народы, ни того, что движение цивилизации вперед есть благо».
Отметим здесь очень типичную для ряда русских мыслителей идею о возможности для России не повторять европейской истории. Значительно позже Толстой снова возвращается к той же мысли, что «нам, русским, нет необходимости повторять европейскую цивилизацию». Мы увидим у Н. К. Михайловского наиболее развитое учение об этом.
В «Исповеди» Толстой рассказывает, что когда он вернулся из–за границы (первое путешествие его относится к 1857 г.) и стал работать с крестьянскими детьми, то в нем уже стала разлагаться вера в «правду прогресса»: «Я действовал еще во имя прогресса, но уже относился критически к нему. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершался неправильно». Особенное и решающее значение имели здесь для Толстого интересы народа, взятого в реальной его массе, а не отвлеченно. Конечно, Толстой хорошо понимал, что он становился в противоречие не только со всей «городской» жизнью, которая ему, по его признанию, «опротивела»: подвергая критике самые устои современности, он, в сущности, терял почву под ногами, ибо и сам жил тем, что лежало в основе культуры XIX века — верой в человека, в прогресс. Исследуя современность, он глубоко почувствовал ее безрелигиозность и потому беспочвенность — ив связи с этим он вступил в полосу напряженнейшего духовного кризиса, в течение которого, по его признанию, не раз хотел покончить с собой. Бессмыслица безрелигиозной жизни, бессмыслица чисто внешнего движения вперед выступили перед сознанием Толстого с такой силой, что вернуться к прежней жизни он уже не мог… Ему было уже 50 лет, он был наверху славы, испил до дна чашу жизненного счастья, но перед лицом той бездны, которая раскрывалась перед ним в итоге пересмотра основ современности, жизнь в нем, по его словам, остановилась… Как известно, кризис, пережитый Толстым, закончился поворотом к религии, — и вся та глухая борьба с устоями современной культуры, которая шла раньше в его душе и искала своего выражения в творчестве, нашла себе теперь исход в новом религиозном отношении к миру, в новом религиозном жизнепонимании. В этом периоде критика европейской культуры не только не ослабляется, но, наоборот, заостряется, причем нередкое раньше у Толстого противопоставление России и Запада исчезает — с тем чтобы снова появиться в последний год его жизни. Для Толстого, после перелома, Россия представлялась больной той же духовной болезнью, что и Запад.