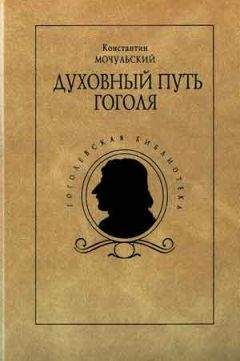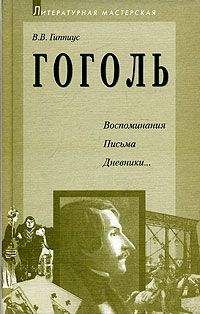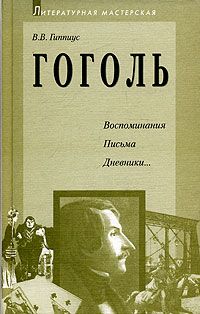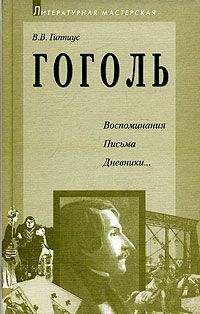К. Мочульский - Гоголь. Соловьев. Достоевский
У Спинозы Соловьев нашел философское обоснование своей первоначальной интуиции, духовного всеединства мира. Спиноза modo geometrico выводит всю множественность материальных вещей из единой духовной субстанции — Deus sive Natura. Дух и материя — одно; порядок и сочетание вещей тождественны порядку и сочетанию идей. Философия Спинозы была для Соловьева откровением: она объясняла ему смысл его собственного мистического прозрения и вместе с тем как будто оправдывала материалистическую теорию естествознания. Автор «Этики» вводил понятие Бога, не нарушая механистического детерминизма. Оправдывая философски познание эмпирическое и рациональное, он утверждал возможность «третьего рода познания» — интуитивного. Соловьев усваивает эти идеи и впоследствии вводит их в свою синтетическую систему. «Deus sive Natura», «Natura naturans и Natura naturata», творчески претворенные, лежат в основе соловьевского панпсихизма.
Следующий этап — изучение скептического Джона Стюарта Милля: догматы материализма не выдерживают тонкой и насмешливой критики английского эмпири–ста. Соловьев начинает понимать, что сущность материи не менее непостижима, чем сущность духа, что материализм ничего не объясняет и никакой «действительности» не соответствует. Он вплотную подходит к проблеме человеческого знания — и здесь ждет его Кант.
«Наиболее глубокий переворот в Соловьеве, — сообщает Лопатин, — вызывает изучение Канта и в особенности Шопенгауэра». Молодой философ окончательно освобождается от догматизма и через кан–товскую гносеологию приходит к заключению, что знание не противоречит вере и что наука совместима с религией. Изучение Канта было для Соловьева школой философской дисциплины мысли, но теория познания, формально разрешив ему искать Бога, не могла этих исканий удовлетворить. Бог Канта был не живым Богом, а отвлеченным понятием, «постулатом практического разума». И Соловьев стремительно «влюбился» в Шопенгауэра. Лопатин пишет: «Шопенгауэр овладел им всецело, как ни один философский писатель после и раньше… У него Соловьев нашел то, чего не находил ни у одного из излюбленных им писателей — удовлетворение никогда не умолкавшей в нем религиозной потребности, религиозное понимание и религиозное отношение к жизни».
У немецкого философа Соловьев встретил родственную ему эсхатологическую интуицию. Биологическая эволюция Дарвина, привлекавшая его своим динамизмом, и теория прогресса Спенсера, вдохновлявшая его идеей исторического процесса, в сочинениях Шопенгауэра приобретали глубокий религиозный смысл. Вся мировая жизнь раскрывалась здесь как единый нравственный очистительный процесс. Цель истории — освобождение мира от зла и страданий через угашение злой воли к бытию. У Шопенгауэра Соловьев узнал знакомую ему русскую «страсть к разрушению». Пережитый им нигилизм возрождался, облеченный в философскую мантию. У Шопенгауэра было то же острое чувство неправды жизни, тот же пафос спасения и освобождения. Он учил, что конец мира должен наступить и что каждый может ускорить его приближение. Соловьев верил, что «правда» на земле скоро восторжествует, но не знал, какая правда. Шопенгауэр открыл ему глаза: эта правда — Нирвана. На некоторое время Соловьев становится буддистом и со страстью отдается изучению восточных религий.
«Но и увлечение Шопенгауэром, — продолжает Лопатин, — только эпизод в умственном росте Владимира Сергеевича. Отчасти благодаря сочинениям Эд. Гар–тмана, отчасти собственной умственной работой Соловьев приходит к сознанию умозрительных недостатков системы Шопенгауэра».
После погружения в Нирвану — новая неудовлетворенность и новые искания. Увлечение пессимистической философией постепенно изживается.
«После Шопенгауэра, — пишет Лопатин, — Соловьев изучает системы немецких идеалистов: Фихте, Шеллинга, Гегеля… Особенно сильное влияние в эту эпоху оказал на него Шеллинг своей положительной философией, о которой он еще из отзывов Гартмана вынес представление, как о системе, примиряющей крайние точки зрения Шопенгауэра и Гегеля».
Наконец, Соловьев знакомится с позитивизмом Огюста Конта. В нем видит он завершение всей западной философии. Отказ от познания сущности бытия, ограничение области знания миром явлений, — вот чем, по его мнению, заканчивается многовековое развитие европейской мысли.
Занятия естествознанием и философией приводят Соловьева к пессимистическому выводу: ни опытное знание, ни отвлеченная мысль не способны удовлетворить метафизическим запросам человеческого духа.
Но для Соловьева философия была не теорией, а «жизненным делом». Идеи философов, которых он изучал, овладевали всем его существом: он жил ими.
Этапы его духовной жизни можно проследить по его переписке с Е. В. Романовой; это его философский дневник.
* * *
В первом письме (12 октября 1871 г.) Соловьев — студент физико–математического факультета — говорит о своем разочаровании в естественных науках. «Пожалуйста, только занимайся не слишком усидчиво и ради Бога не естественными науками: это знание само по себе совершенно пустое и призрачное. Достойны изучения сами по себе только человеческая природа и жизнь, а их всего лучше можно узнать в истинных поэтических произведениях».
Материалистический и естественно–научный период уже кончен; Бюхнер и Писарев остались далеко позади; Соловьев готовится покинуть физико–математический факультет и перейти на историко–филологический.
Во втором письме (21 декабря 1871 г.) — настроение шопенгауэровское. «Может быть даже хорошо, — пишет Соловьев, — что эта внешняя жизнь сложилась для тебя так неутешительно: потому что к этой жизни вполне применяется мудрое изречение: чем хуже, тем лучше. Радость и наслаждение в ней опасны, потому что призрачны; несчастие и горе — часто являются единственным спасением. Уже скоро две тысячи лет, как люди это знают, и между тем не перестают гоняться за счастием, как малые дети. Не будем хоть мы с тобой малыми детьми в этом отношении». И тут же отголоски «бессознательного духа» Гартмана. Соловьев советует кузине внутреннее убеждение ставить выше всех логических доказательств,: «В серьезных вопросах внутренне бездоказательное и бессознательное убеждение есть голос Божий».
В третьем письме (27 января 1872 г.) шопенгауэровский пессимизм уже связывается с христианским аскетизмом и осмысливается религиозно. Наша жизнь — ложь и смерть, но есть другая истинная жизнь; чтобы найти ее, нужно раскрыть подлинный лик христианства. «Если то, что считается действительной жизнью, — пишет Соловьев, — есть ложь, то должна быть другая истинная жизнь. Зачаток этой истинной жизни есть в нас самих, потому что если бы его не было, то мы удовлетворились бы окружающей нас ложью и не искали бы ничего лучшего… Истинная жизнь в нас есть, но она подавлена, искажена нашей ограниченной личностью, нашим эгоизмом. Должно познать эту истинную жизнь, какова она сама в себе, в своей чистоте и какими средствами можно ее достигнуть. Все это было уже давно открыто человечеству истинным христианством, но само христианство в своей истории испытало влияние этой ложной жизни, того зла, которое оно должно было уничтожить; и эта ложь так затемнила, так закрыла христианство, что в настоящее время одинаково трудно понять истину в христианстве, как и дойти до этой истины прямо самому».
Это решительный момент в развитии Соловьева: шопенгауэровская злая и бессмысленная воля как истина о мире, Нирвана как цель и разрушение, как средство уже преодолены: он говорит о положительной истине, заключенной в христианстве, но еще не верит, а только рассуждает об истине.
В письме от 26 марта 1872 г. наука уже пишется в кавычках, она даже не средство к постижению смысла жизни: стремясь познать природу, она ее убивает. Совсем в духе шеллингианской натурфилософии звучат следующие слова: «Я того мнения, что изучать пустые призраки внешних явлений — еще глупее, чем жить пустыми призраками. Но главное дело в том, что эта «наука» не может достигнуть своей цели. Люди смотрят в микроскоп, режут несчастных животных, кипятят какую‑нибудь дрянь в химических ретортах и воображают, что они изучают природу! Этим ослам нужно бы на лбу написать:
Природа с красоты своей Покрова снять не позволяет, И ты машинами не вынудишь у ней, Чего твой дух не угадает.
Вместо живой природы они целуются с ее «мертвыми скелетами». Выпады против «ослов», изучающих «пустые призраки внешних явлений», едва ли были оценены по существу философски невинной кузиной Катей. Как было ей догадаться, что, опираясь на Шеллинга, Соловьев вступает в бой с позитивистами, что в этот момент в его голове рождаются основные мысли его магистерской диссертации: «Кризис западной философии»?