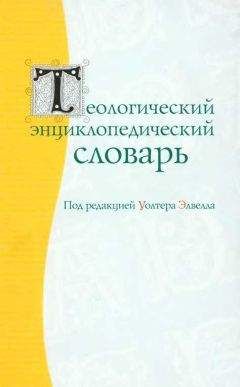Дмитрий Шишкин - Возвращение красоты
Вот осенний промозглый вечер. Гулять не пойдешь — льет дождь, и погода такая неприютно-скучная. Мы, несколько босяков, сидим в пещерке и наблюдаем, как «за окном», то бишь во входном проломе, сгущаются сумерки. Быстро темнеет, но нет настроения разжигать костер и разговаривать. Появляется Герик, мокрый до нитки. Покашливая, он мастерит самокрутку, затягивается и устраивается с краю сенника смотреть на дождь. Вот уже совсем стемнело, дождя не видно, и в пещере воцаряется какая-то безрадостная, унылая тишина.
— Ну, чего молчим? Рассказали бы что-нибудь, — предлагает Санька.
Никто не отзывается. Проходит еще минута тишины, сопровождаемая шелестом дождя. И тогда… Я никогда не забуду этот момент… Санька вдруг заговорил… стихами:
Когда надежде недоступный,
Не смея плакать и любить,
Пороки юности преступной
Я мнил страданьем искупить;
Когда былое ежечасно
Очам являлося моим
И все, что свято и прекрасно,
Отозвалося мне чужим;
Тогда молитвой безрассудной
Я долго Богу докучал
И вдруг услышал голос чудный.
«Чего ты просишь?» — он вещал;
«Ты жить устал? — но я ль виновен;
Смири страстей своих порыв;
Будь, как другие, хладнокровен,
Будь, как другие, терпелив.
Твое блаженство было ложно;
Ужель мечты тебе так жаль?
Глупец! Где посох твой дорожный?
Возьми его, пускайся в даль;
Пойдешь ли ты через пустыню
Иль город пышный и большой,
Не обожай ничью святыню,
Нигде приют себе не строй»…
Ну что сказать?.. Я не то чтобы был удивлен, я просто опешил и в первый момент не мог поверить своим ушам: Санька читает Лермонтова! Санька — человек без определенного места жительства, бродяга, за плечами у которого две ходки и жизнь, лишенная каких бы то ни было романтических иллюзий и перспектив!..
Причем никогда ни до, ни после я не слышал такого чтения! Он не декламировал, не волновался, как волнуются при чтении стихов «любители», когда хотят что-то «показать» или «донести» публике. В его чтении напрочь отсутствовала и та нарочитая «профессиональная» театральность, что придает любым, даже хорошим стихам привкус фальшивой помпезности. Он просто рассказывал, так же убедительно и ясно, как всегда, о чем-то особенно важном, что увидел и понял в своей непростой жизни, и его рассказ каким-то удивительным образом естественно укладывался в стихи…
Поразительно еще и то, что Санька в тот вечер читал не какое-то одно, любимое стихотворение, выученное, скажем, когда-то по случаю «на заре туманной юности». Он знал и читал много, и не только Лермонтова. В другой раз при похожих обстоятельствах мне довелось услышать в его исполнении поэму А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин»… Услышать — заметьте — от начала и до конца!
Но при всем при том он не был каким-то субтильным ипохондриком. Напротив, в нем чувствовалось постоянное напряжение, готовность ответить на вызов, и в ответах своих он бывал адекватно дерзким.
Однажды он появился избитый, но флегматично-спокойный. Оказалось, в городе, на «Пушкаре», он зацепился с какой-то компанией, так что пришлось подраться. Скорее всего, кто-нибудь что-то ляпнул у него за спиной… Но Санька был не тот человек, который пропускает мимо ушей грубости. Я уже сказал, что он сам привык отвечать за свои слова и того же требовал от других. И он, очевидно, потребовал… И получил… Но совесть его была чиста, и именно в этом заключалась причина его спокойствия. «Я не Геракл, дрался, как мог… а остальное неважно», — резюмировал он… То есть неважно, избили тебя или нет, неважно даже, сильнее ты своего противника или нет, но важно само стояние за правду! Вот так. А многие ли из нас — «благоразумных» — готовы сейчас постоять за нее, родимую?..
В другой раз в городе на Саньку спустили «немца». Санька не стал кричать хозяину, чтобы убрал собаку, не стал убегать и звать на помощь, а… бросился в бой. Я видел его через пять минут после этого, задыхающегося, в окровавленных лохмотьях, бледного, чуть под хмельком. Он не возмущался растерянно и суетливо, а только жалел, что не успел добраться до хозяина — трусливого подловатого подростка, который спустил собаку «на бомжа» ради хохмы, а потом сам не знал, куда спрятаться…
Как я уже говорил, Санька был фанат рок-н-ролла. И первое, что он сделал после второй отсидки, — это смастерил из старой раскладушки флейту. Это кажется какой-то нелепостью… Ну, можно еще представить себе бамбуковую сопилку из удочки, например, — у кого таких не было? — но из алюминиевой трубки!.. И тем не менее он сделал ее и, кажется, не променял бы этот свой самоделок даже на флейту легендарного Яна Андерсона.
Как-то Санька позвал меня в Акустику.
Но надо сказать несколько слов об этой пещере. В конце восьмидесятых в Питере и Москве были распространены так называемые квартирники, когда какой-нибудь кумир андеграунда давал концерт на частной квартире. Собиралась публика непоседливая, но живая и всегда благодарная. Возникала такая особая, доверительная атмосфера камерного рок-н-ролла. Но там играл и пел свои песни кто-то один, а в Акустике мог «высказаться» всякий желающий.
Обычно отправлялись туда под вечер, в сумерках, с покрывалами, подстилками, гитарами, бубнами и сопилками — у кого что было. Иногда прихватывали с собой винишко, но чаще папиросы и бережно свернутый из газеты пакет с травой — «пакаван», как его называли. Чтобы добраться до пещеры, нужно было миновать развалины цитадели, пройти по тропинке мимо древнего колодца, закрытого решеткой, и с левой стороны у обрыва в приметном месте спуститься по старым полуобрушенным ступеням. За крохотной площадкой открывался вход в пещеру.
Я не знаю, почему именно в этой пещере, единственной в своем роде среди всех мангупских пещер, такая великолепная акустика. И это при том, что сама пещера не слишком большая, да еще и в одной из стен ее зияет дыра, ведущая в соседнее помещение. Словом, ничто не предполагает здесь того, чем пещера прославилась в новейшей мангупской истории. Но факт остается фактом, и думаю, что не одна сотня «пещерников» состоялась в этой средневековой крипте.
Вообще, босяки сходились на том, что пещера и в древности имела не совсем обычное (не хозяйственное) предназначение. Об этом свидетельствовала и широкая каменная скамья, вырубленная у дальней стены. Быть может, в этой комнате собирались старейшины для решения сакраментальных вопросов жизни древнего княжества… Так у Акустики кроме ее необъяснимых, но очевидных акустических качеств появился еще ореол мистический, так что все действа, происходившие здесь, как бы приобретали сокровенный, таинственный смысл.
Забравшись в пещеру, все обычно рассаживались на каменной скамье, постелив покрывала, в центр ставили зажженную свечу или светильник. И вот, передавалась из рук в руки гитара, и каждый имел возможность что-нибудь спеть. Цой, Гребенщиков, Егор Летов, Янка, Шевчук, «Зоопарк», Башлачев, Чистяков… Чьи песни здесь только не исполнялись! Если в пещере оказывалась вторая гитара и флейта, то начинался настоящий джем-сейшн, неизбежные погрешности которого с лихвой покрывала акустика пещеры. Но глубже и проникновеннее всего звучала в Акустике именно флейта. Вот с ее звучанием и связано одно из самых ярких моих мангупских воспоминаний.
Итак, в тот день Герик предложил пройтись, как это часто бывало, по плато. Ну, добро… Идем, о чем-то беседуем. Прошли цитадель, добрели до Акустики, и тут Санька неожиданно предложил зайти.
Была весна, то время, когда запустение на Мангупе особенно обостряет его звучание, чуть грустное и чистое, как воспоминание о наивной и несбывшейся детской мечте… Как будто вековая мудрость, любовь и боль древнего города становились вдруг доступны человеческому восприятию. И это чувство общения с прошлым было таким необъяснимо явственным, сильным, что грань между нами и жизнью давно минувших веков казалась не более чем условностью, которую можно преодолеть, достаточно только прислушаться внимательнее…
В пещере стояла темная вода, которая почему-то собиралась здесь каждую зиму, как в бассейне, и испарялась только к середине июня. Мы забрались через пролом из соседней пещеры и уселись на корточках на каменной скамье. Вспомнилось давно ушедшее лето, смех, музыка, живое и радостное общение, любовь и дружба… Все это казалось теперь таким безвозвратным, трогательным и по-настоящему важным…
Герик молчал с минуту, а потом вдруг достал из рукава свитера свою алюминиевую флейту и заиграл…
Я знал, что он играет на флейте, но… кто на ней тогда не играл? У каждого бродяги имелась бамбуковая дудка, из которой он мог извлечь какие-то звуки. Но игра Герика была совершенно иной. Он только нащупал голос какими-то общими фразами типа «Summertime» Гершвина, а потом, все более увлекаясь и увлекая, стал развивать свою, особую тему… Санька играл совсем не по-босяцки, уверенно, смело, но вместе с тем как будто растерянно, изумленно и так проникновенно, словно спешил высказать то главное, что вынашивается годами в молчании, чтобы однажды ворваться звуком. В его музыке мне слышался рассказ о жизни души в древнем городе, о ее неизбывной боли, о неосуществленных надеждах, об утраченном счастье и растерзанной внезапно любви… Но он играл и о том, что жизнь невозможно убить, что правда остается правдой даже там, где сделано все, чтобы о ней не осталось и помину, что несбывшееся каким-то странным образом связано с нами и мы уже никогда не сможем, не посмеем об этом забыть…