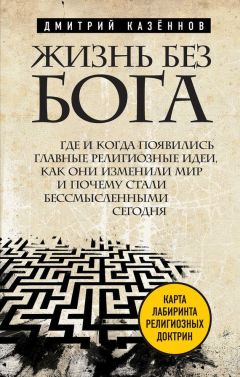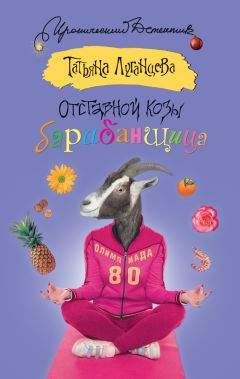Мери Латьенс - Жизнь и смерть Кришнамурти
Публикация в 1976 году этого исключительного свидетельства прошла незамеченной прессой как в Англии, так и в Америке, за исключением абзаца в американском «Издательском еженедельнике», заканчивавшегося словами: «Учение Кришнамурти аскетично, в некотором роде истребляюще». Один или два человека, которые читали манускрипт, были против его публикации Они боялись, что он сломит волю у последователей К. Он утверждал, что люди могут себя преобразовать коренным образом, не со временем, путем эволюции, а путем немедленного осознания, тогда как «Записные книжки» показывают, что Кришнамурти не был обыкновенным преобразованным человеком, а был уникальным существом, существующим в ином измерении. Это был веский довод, и когда ему указали на него, он ответил: «Не нужно быть Эдисоном, чтобы включить электрический свет». Позже он скажет журналисту в Риме, предположившему, что он родился тем, кем есть, и, следовательно, другим не доступно состояние его сознания, «Христофор Колумб отправился в Америку на парусном судне, мы можем лететь самолетом». В ту зиму К. провел 23 публичных беседы в Индии, а также бесчисленные дискуссии, поэтому неудивительно, что он был измучен, когда в середине марта прибыл в Рим, где его встретила Ванда. На следующий день он слег с жаром. В этом состоянии он «ушел», как имел обыкновение делать, во время «процесса». Ванда записала то, что говорило оставленное охранять тело существо. Но говоривший голос более не напоминал ребенка, напротив, он звучал обычно:
«Не покидай меня, он ушел далеко, очень далеко. Тебе велели ухаживать за ним. Ему не следовало уходить. Тебе нужно было сказать ему об этом. За столом он присутствует не весь. Скажи ему взглядом, чтобы другие не видели, он поймет. Приятное лицо. Длинные ресницы — напрасный дар мужчине. Почему не возьмешь их себе? Лицо тщательно вылеплено. Так долго трудились, столько веков, чтобы создать такое тело. Знаешь ли ты его? Ты не можешь его знать. Как можно знать текущую воду? Послушай, не задавай вопросов. Он должно быть любит тебя, раз позволяет находиться вблизи. Он старается, чтобы люди не прикасались к нему. Ты знаешь как он относится к тебе. Он хочет, чтобы с тобой ничего не случилось. Не делай ничего необычного. Слишком обременительны для него все эти поездки. Люди в самолете, которые курят, постоянное складывание вещей, прилеты и отлеты, — слишком большая нагрузка для тела. Он хотел прилететь в Рим к той леди (Ванде). Ты знакома с ней? Он хотел быстро приехать к ней. Он переживает, если с ней не все в порядке. Все эти поездки, нет, я не жалуюсь. Вы видите, как он чист. Он ничего себе не позволяет. Все время тело находилось на краю пропасти. Его держали, за ним наблюдали, как сумасшедшие, все месяцы, но если его отпустить, он уйдет очень далеко. Смерть рядом. Я говорил ему, что это слишком. Когда он в этих аэропортах, он вынужден быть самим по себе. И он не целый тогда. Вся нищета Индии, умирающие люди. Страшно. Это тело тоже бы умерло, если бы его не нашли. Грязь кругом. Он же чистый. Его тело держат в такой чистоте. Умывают с большой заботой. Сегодня утром он хотел что-то передать тебе. Не останавливай его. Он должен любить тебя. Скажи ему. Возьми карандаш, скажи ему: «Смерть всегда здесь, очень близко от тебя, чтобы защитить тебя. И когда ты спрячешься, ты умрешь».
Когда К. почувствовал себя достаточно хорошо, они переехали в Иль Леццио, там он опять слег, приступ почечных колик был осложнен свинкой в тяжелой форме. Он был так плох, что несколько ночей Ванда спала перед его дверями. Только в середине мая он приехал в Англию, где Дорис Пратт сняла еще один меблированный дом в Уимблдоне. Леди Эмили было теперь 87 лет, и она почти полностью потеряла память; несмотря на это, он часто навещал ее, держа ее в течение часа или более за руку и напевая ей. Она узнала его и любила когда он приходил. Леди Эмили умерла в 1964 году. Я иногда отправлялась, чтобы забрать его из Уимблдона и отвозила в Сассекс, чтобы побродить по лесам, полным колокольчиков. Мы никогда не вели серьезной беседы, а во время прогулки мы вообще не разговаривали. Я знала, что он наслаждался тишиной, видом и ароматом колокольчиков, лесным покоем, пением птиц и нежными молодыми березовыми листками. Он часто останавливался, оглядывался назад на раскинувшийся под ногами голубой туман. Для меня он был тем, кем был всегда: не учителем, а любимым человеком, более близким, чем мои родные. Мне было приятно думать, что я, возможно, единственная, с кем ему никогда не приходилось делать усилий. Когда я узнала, что он выступает в Доме Встречи Друзей, а также в Уимблдоне, я тут же решила поехать послушать его. Я не слышала его бесед с 1928 года в Оммене. Зал был переполнен; в задних рядах люди стояли. Я не заметила, как он вышел на сцену; только что единственный твердый стул, стоявший в центре сцены, пустовал, и вот К., беззвучно войдя, уже сидит, подложив под себя руки, — крохотная фигурка в безукоризненном темном костюме, белой сорочке, темном галстуке, в тщательно почищенных ботинках, ноги вместе. Он был один на сцене (его никогда не представляли, и, как я уже сказала, у него не было конспекта). В зале наступила полная тишина, и сильная волна ожидания пробежала по аудитории. Он сидел молча, не шелохнувшись, оценивая аудиторию легкими движениями головы. Прошла минута, две, я стала бояться за него. Неужели он провалился? Я сидела как на иголках, переживая за него, но вдруг он заговорил, не спеша, своим довольно мелодичным голосом с легким индийским акцентом, распоров тишину.
Позже я узнала, что такое затянувшееся молчание в начале беседы обычно. Это впечатляло, хотя он не ставил такой цели. Он редко знал, о чем будет говорить, прежде чем начинал говорить, будто хотел быть руководимым аудиторией. Вот почему часто беседа начиналась нескладно: «Интересно, с какой целью мы здесь собрались?» — мог он сказать, или: «Я думаю, было бы хорошо, если бы мы смогли установить подлинное понимание между рассказчиком и слушателями». Бывало он точно знал, о чем будет говорить: «Сегодня я собираюсь поговорить о знании, опыте и времени», хотя последующий разговор не обязательно мог ограничиваться этой темой. Он всегда настаивал, что речь его не несет дидактической направленности, что он вместе с аудиторией принимает участие в выяснении истины. Во время беседы он по нескольку раз обращал на это внимание присутствующих.
В этот же вечер в Доме Встречи Друзей он знал, что скажет:
«Для того, чтобы понять, о чем мы будем размышлять сегодняшним вечером, и в последующие вечера, нужен чистый ум. Ум, способный к непосредственному восприятию. В понимании нет ничего загадочного. Оно требует ума, способного прямо взглянуть на вещи, без предвзятости, без личной привязанности, без сложившегося мнения. То, о чем я собираюсь говорить, касается полной внутренней революции, разрушения психологической структуры общества, которым мы являемся. Но разрушение этой психологической структуры, собственно вас и меня, проходит не через усилия, и, я думаю, именно в этом состоит вся трудность понимания».
Смысл слов К. доходил до большинства людей, как я полагаю, через физическое присутствие самого этого человека — излучения, которое посылало смысл прямо для понимания, минуя ум, и если люди по-разному воспринимали содержание беседы, так это зависело скорее от индивидуальных способностей воспринимать, чем от того, что сказано. Хотя он подоткнул под себя руки, когда вышел на сцену, на протяжении беседы он жестикулировал то одной, то другой, часто растопыривая пальцы. На его руки было приятно смотреть. В конце беседы он удалился так же незаметно как и вошел. Его индийская аудитория была более импульсивна, чем западная, а ведение бесед на открытом воздухе намного затрудняло его уход со сцены. Он резко приходил в замешательство от бурного поклонения в Индии, когда люди падали ниц или пытались коснуться его самого или его одежды. Кода он уезжал со встречи в Бомбее, к нему простирались руки, чтобы через открытое окно машины дотронуться до его руки. Однажды он испугался, когда мужчина, схватив его руку, потянул ее себе в рот.
Вторая встреча в Саанене тем летом состоялась в большом шатре (лишь в 1965 году часть арендованной земли, на которой стоял шатер, неподалеку от реки Саанен, была куплена Корпорацией на денежные средства, переданные Раджагопалом). Ванда Скаравелли снова сняла Шале Таннегг, что она делала вплоть до лета 1983 года, привезя с собой собственного повара Фоску для ведения хозяйства. К. неважно себя чувствовал после встреч в конце августа. Он решил отменить поездку в Индию и остаться до рождества в Таннегге. Раджагопал приехал повидать его в октябре, надеясь добиться примирения, но поскольку первый настаивал на своем, а К. хотел восстановить членство в Корпорации трудов Кришнамурти, отношения зашли в тупик. Заехав в Лондон, Раджагопал в беседе со мной еще озлобленнее ругал К., голословно обвиняя его в лицемерии, чрезмерном внимании к своей внешности перед выходом на сцену, когда он тщательно расчесывал волосы. Раджагопалу, как и мне было известно, что К. следит за своей внешностью, как, впрочем и за внешностью других. Тот, кто собирался встретиться с ним, всегда стремился выглядеть наилучшим образом, поскольку К. замечал все. Да и на сцене перед аудиторией следует выглядеть наилучшим образом. Я уговаривала Раджагопала прекратить работу на К. ввиду его отношения (он дал мне понять, что дело не в деньгах), поселиться в Европе, где столько друзей, но беда Раджагопала заключалась в его односторонней любви-ненависти, усугубленной равнодушием К. Покинув Таннегг, К. с Вандой поехали в Рим, где она познакомила его со многими известными людьми — кинорежиссерами, писателями, музыкантами, включая Феллини, Понтекорво, Альберто Моравиа, Карло Леви, Сеговья и Казальса, игравшего ему. (Из Иль Леццио они несколько раз выезжали повидать Бернарда Беренсона в Татга.) [29]