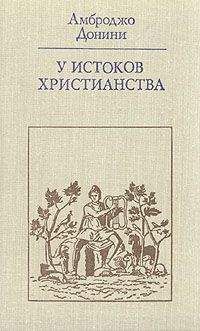Владимир Лосский - Догматическое богословие
Апофатизм состоит в отрицании всего того, что Бог не есть: сначала устраняется все тварное, даже космическая слава звездных небес, даже умопостигаемый свет небес ангельских. Затем исключаются самые возвышенные атрибуты — благость, любовь, мудрость. Наконец, исключается даже и само бытие. Бог не есть что-либо из этого; в самой природе Своей Он непознаваем. Он — "не-есть". Но (и в этом весь парадокс христианства) Он — тот Бог, Которому я говорю "Ты", Который зовет меня, Который открывает Себя, Личного, Живого. В литургии святого Иоанна Златоуста перед "Отче наш" мы молимся: "И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати: Отче наш". В греческом тексте — буквально: "Тебя, επουρανιον Φεον, Бога Сверхнебесного — Которого невозможно наименовать, Бога апофатического — Тебя называть Отцом и сметь Тебя призывать". Молимся о том, чтобы иметь дерзновение и простоту говорить Богу "Ты".
Так рядом с путем негативным открывается путь позитивный, путь "катафатический". Бог сокровенный, пребывающий за пределами всего того, что Его открывает, есть также тот Бог, Который Себя открывает. Он — мудрость, любовь, благость. Но Его природа остается в глубинах Своих непознаваемой, и именно потому Он Себя открывает. Постоянное памятование о пути апофатическом должно очищать наши понятия и не позволять им замыкаться в своих ограниченных значениях. Конечно, Бог мудр, но не в банальном смысле мудрости купца или философа. И Его премудрость не есть внутренняя необходимость Его природы. Имена самые высокие, даже имя "любовь" выражают Божественную сущность, но ее не исчерпывают. Это — те атрибуты, те свойства, которыми Божество сообщает о Себе, но при этом Его сокровенный источник, Его природа никогда не может истощиться, не может пред нашим видением объективироваться. Наши очищенные понятия приближают нас к Богу, Божественные имена даже в каком-то смысле позволяют нам войти в Него, но никогда не можем мы постигнуть Его сущность, иначе Он определялся бы Своими свойствами; но Бог ничем не определяем и именно потому Он личен.
Святой Григорий Нисский в этом смысле толкует "Песнь Песней", в которой он видит мистический брак души (и Церкви) с Богом. Невеста, устремляющаяся за женихом — это душа, ищущая своего Бога. Возлюбленный появляется и ускользает — так же и Бог: чем более душа Его познает, тем более Он от нее ускользает и тем более она Его любит. Чем более Бог насыщает ее Своим присутствием, тем более жаждет она присутствия более полного и устремляется Ему вослед. Чем более она полна Богом, тем более обнаруживает она Его трансцендентность. Так душа преисполняется Божественным присутствием, но все больше погружается в неистощимую, вечно недостижимую сущность. Бег этот становится бесконечным, и в этом бесконечном раскрытии души, в котором любовь непрестанно восполняется и возобновляется, в этих "началах начал" святой Григорий и видит христианское понятие блаженства. Если бы человек знал самую природу Бога, он был бы Богом. Соединение твари с Творцом есть тот бесконечный полет, в котором чем более переполнена душа, тем блаженнее ощущает она это расстояние между нею и Божественной сущностью, расстояние, непрестанно сокращающееся и всегда бесконечное, которое делает возможной и вызывает любовь. Бог нас зовет, и мы объяты этим зовом, Его одновременно открывающим и сокрывающим; и мы не можем Его достичь иначе, чем лишь именно в этой с Ним связанности, а чтобы связь эта существовала, Бог в сущности Своей всегда должен оставаться для нас недосягаемым. Уже в самом Ветхом Завете присутствует этот негативный момент: это образ мрака, который так часто употребляют христианские мистики:
"мрак соделал покровом своим"
(Пс.17). И Соломон в своей молитве при освящении храма (книга Царств) говорит Богу:
"Ты, Который пожелал обитать во мраке"
. Вспомним также мрак Синайской горы.
Опытное познание этой трансцендентности присуще мистической жизни христианина: "Даже когда я соединен с Тобою, — говорит преподобный Макарий, — даже когда мне кажется, что я больше от Тебя не отличаюсь, я знаю, что Ты — Господин, а я — раб". Это уже не неизреченное слияние Плотиновского экстаза, но личное отношение, которое, отнюдь не умаляя Абсолют, открывает Его как "другого", то есть всегда нового, неиссякаемого. Это есть отношение между личностью Бога, природой, которая сама по себе недосягаема (идея сущности здесь не ставит границы для любви, напротив, она указывает на логическую невозможность какого-то "достижения предела", что ограничивало бы Бога и как бы истощало Его), и личностью человека; человек даже и в самой немощи своей остается, или, вернее, становится личностью полноценной. Иначе не было бы больше "religio", то есть связи, отношения.
Поэтому источник истинно христианского богословия — это исповедание воплотившегося Сына Божия. В воплощении одно Лицо действительно соединяет в Себе непознаваемую, трансцендентную природу Божественную с природой человеческой. Соединение двух природ во Христе, это соединение природы Сверх-небесной и — даже до гроба, даже до ада — природы земной. Во Христе раскрывается непостижимое и дает нам возможность говорить о Боге, то есть "Бого-словствовать". В этом именно и состоит вся тайна: человек смог увидеть (и видит) во Христе Бога, он смог увидеть (и видит) во Христе сияние Божественной природы. Это соединение без смешения в одном Лице Божественного и человеческого исключает всякую возможность метафизического суждения, безотносительного к Троице и растворяющегося в безличном: это соединение, наоборот, завершает и утверждает откровение, как встречу и приобщение.
* * *
Так греческая мысль одновременно открыла и закрыла путь христианскому учению. Она открыла его, прославив Логос и небесную красоту если не Самого Бога, то во всяком случае Божественного. Она закрыла этот путь, направив мудреца к спасению бегством [evasion]. Многие противопоставляли мрачному христианскому учению "радость жизни" античного мира. Но делать подобное противопоставление значит забыть трагический смысл рока в греческом театре, забыть обостренный аскетизм Платона, ставившего знак равенства между телом и гробом (σωμα — σημα), и тот дуализм, который он устанавливает между чувственным и умопостигаемым с тем, чтобы обесценить чувственное как только отражение и побудить бежать от него. В каком-то смысле античная мысль подготовила не только христианское учение, в котором она сама себя превзошла, но более или менее грубый дуализм гностических систем и манихейства, где она судорожно восстает против Христа.
То, чего недостает этой мысли, что станет для нее одновременно возможностью свершения и камнем преткновения, — это реальность воплощения. Блаженный Августин, вспоминая свою молодость, дает превосходное сопоставление античности и христианства. "Там я прочел, — говорит он, вспоминая свое открытие Эннеад, — что в начале было Слово (он находит Иоанна Богослова в Плотине), я прочел, что душа человека свидетельствует о свете, но что сама она не есть свет... Но я не нашел того, что Слово пришло в этот мир, и мир не принял Его. Я не нашел того, что Слово стало плотью. Я нашел, что Сын может быть равен Отцу, но не нашел, что Он Сам умалил Себя, смирил Себя до смерти крестной... И что Бог Отец даровал Ему имя Иисус". Но это имя и есть начаток всяческого богословия.
(3) ТРОИЦА
Воплощение, эта отправная точка богословия — сразу ставит в самом его средоточии тайну Троицы. Действительно, Воплотившийся не Кто иной, как Слово, то есть второе Лицо Пресвятой Троицы. Поэтому воплощение и Троица друг от друга неотделимы и, вопреки некоторой протестантской критике, вопреки либерализму, пытающемуся противопоставить богословию Евангелие, мы должны подчеркнуть, что православная триадология уходит своими корнями в Евангелие. Можно ли, действительно, читать Евангелие и не спросить себя: Кто же Иисус? И когда мы слышим исповедание Петра:
"Ты Сын Бога Живаго"
(Мф. 16, 16), когда евангелист Иоанн открывает перед нами в своем Евангелии вечность, то мы понимаем: единственный возможный ответ дает догмат о Пресвятой Троице: Христос — единородный Сын Отчий, Бог, равный Отцу, тождественный с Ним по Божеству и отличный от Него по Лицу.
Основным источником нашего знания о Троице действительно является не что иное, как пролог Евангелия от Иоанна (а также его 1-е послание), отчего автор этих дивных текстов и получил в православной традиции наименование "Богослов". С первого же стиха пролога Отец именуется Богом, Христос — Словом, и Слово в этом "начале", которое здесь носит не временной, а онтологический характер, есть одновременно и Бог ("в начале... Слово было Бог"), и иной чем Отец ("и Слово было у Бога"). Эти три утверждения святого евангелиста Иоанна