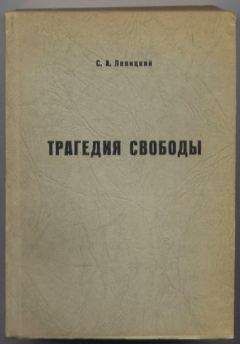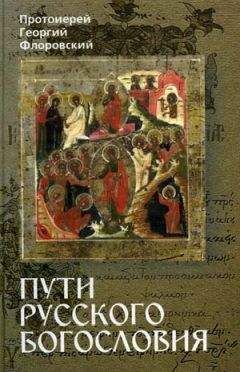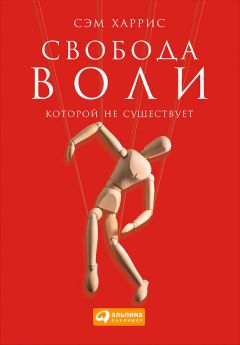Прот. Георгий Флоровский - Пути Русского Богословия. Часть II
У Федорова остается одно прикладное христианство без основного. Его «проект» нисколько не выводит за пределы «слишком человеческого». И не в христианском Откровении источник его вдохновений. Федоров исходит из других преданий и традиций. Он строит какое-то «новое христианство». Его историческая память своеобразно сужена. Он строит именно нечто новое…
И очень характерно, что у Федорова оказывается неожиданно много точек близости и соприкосновения с «Позитивной Политикой» Огюста Конта. [78] Можно думать, не случайно и Влад. Соловьев взялся вновь за чтение Конта в девяностые годы, когда влияние Федорова на его мысль сказывалось так очевидно. В известной его статье о Конте нетрудно распознать прямые намеки на Федорова…
Соловьев выделяет у Конта мотив воскресения. «Конт не высказывает прямо этой мысли, но кто с добросовестным вниманием прочтет все четыре тома его Politique positive, тот должен будет признаться, что никто из знаменитых в мире философов не подходил так близко к задаче воскресения мертвых, как именно Август Конт…» И, кстати заметить, вряд ли случайно Соловьев называет здесь воскресение «задачей…»
Мысль Конта, действительно, всегда обращена или поворочена к предкам. И «позитивный культ» есть именно культ предков, прежде всего. О погребении и о кладбище Конт размышлял с таким же вниманием и настойчивостью, как и Федоров. Общественный культ в «религии человечества» и прикрепляется к священным некрополям…
Прямо Конт говорит только об «идеальном воскресении», — в памяти или вечном памятовании, в культе умерших, всего больше — в единодушии и единомыслии сменяющих поколений с отошедшими. Но подразумевает он при этом нечто большее. Он думает все время об оживляющей силе любви…
«Великое Существо» и состоит прежде всего, из усопших, из предков. И через них Великое Существо и действует в истории еще становящегося человечества. Усопшие властвуют над живыми тройной силой примера, давности, предания. И ряд предков важнее толпы современников. В том залог поступания, чтобы власть усопших усиливалась. Непрерывность в предании и времени даже важнее солидарности или согласия среди живущих…
У Конта очень силен этот пафос исторической «непрерывности», потребность интегрировать всю полноту пережитой истории в действительное единство. В позитивном «культе предков», в этой «идеализации» и «адорации» отошедших сказывается самая острая потребность встретиться и быть с умершими, как с живыми, — потребность преодолеть этот тягостный разрыв между сменяющимися поколениями, остановить мгновение, остановить само время. И последнее «таинство» позитивного культа есть обряд «включения» или «инкорпорации», т. е. торжественного причтения усопших к благородному сонму предков, к составу «Человечества…»
С Контом у Федорова прежде всего тема общая. И тот же дух притязаемой «научности», такой же натурализм или «физицизм». Федоров идет дальше Конта, у него много своего. Но «тип» мировоззрения у них одинаковый…
Есть и другие точки сходства между ними. Теория брака у Конта очень напоминает замысел Федорова «обращать» эротическую энергию, и еще больше напоминает Конта Соловьев (разумею его «Смысл любви»). Мысль Федорова организовать в постоянный «вселенский собор» представителей духовенства, науки и искусства имеет много параллелей в проектах Конта и еще Сен-Симона…
Много общего у Федорова и с Фурье, с его «мистическим позитивизмом», где так причудливо перемешаны мотивы Дидро и Ретифа. Роднит их греза о возрождении природы и воскресении умерших, притом именно через сознательную регуляцию природы. И, подобно Фурье, Федоров ставил и положительно решал «небесно переселенческий вопрос», — «вознесение воскрешенных поколений на небесные миры или земли, которые и будут… воссозидаемы и управляемы вознесенными на них поколениями воскрешенных». Но на тему о «родстве» Федоров с Фурье резко расходится…
Мировоззрение Федорова сложилось под французскими влияниями, немецкой философии он не любил. Из французского утопизма отчасти у него и сам пафос социального строительства и «дела». И все его размышления о «неродственном» состоянии мира очень близко напоминают учения французских позитивистов и социалистов об «анархии», (у Ог. Конта), об оскудении «братства» (у Сен-Симона), о «раздроблении» жизни (у Фурье). Самоутверждению личности во всех этих системах противопоставляется начало общения и братства, начало согласия и совместного труда. Роднит с ними Федорова и его пафос родовой полноты и цельности, — под другими именами он говорит всегда именно о «Человечестве…» В частности, у самого Фурье и в фурьеризме были очень сильные связи с давней магической традицией. Эти магические традиции вновь оживают и у Федорова…
Он и остается до конца в этом безысходном кругу магического и технического натурализма, этого чудотворчества разума и сознания («психократия»). В его мировоззрении не остается места для свободного вдохновения и творчества, нет места и для умного делания, для духовной жизни, и молитвенных восхождений. О таинствах говорит он как-то двояко. И магия «всеобщего предприятия» для него реальнее Святейшей Евхаристии…
Все мировоззрение Федорова поражено неисцельным практицизмом, под именем «трудового сознания» он проповедует самый насильнический утилитаризм. Личность подчиняется «проекту». Он и сам проговаривается о «тягле» своего принудительного религиозно-магического «проекта». Под именем свободы он разумеет тоже только труд, — своими руками… В системе Федорова душно, сколько бы он ни говорил о небесных просторах и переселениях по звездам. В ней чувствуется зачарованность смертью…
У Федорова много ярких и немало верных мыслей, и много чутких догадок и наблюдений. Это был больше упрямый, чем смелый мыслитель. В критике и в своих исканиях Федоров часто бывает прав. И прежде всего, был он прав в этом требовании «делового слова» в этой жажде христианского дела. Но и эта правда изнутри обессилена гуманистической самоуверенностью…
«Дело» он измыслил себе соблазнительное и напрасное… И «блеск мечты не есть пламень благодати…»
13. Заключение.
Религиозный возврат был вместе и философским пробуждением… Это — очень характерный и значительный факт русского недавнего развития… Далеко не всегда то бывало возвращение к истинной вере, не всегда в Церковь, даже не всегда и в христианство. Иногда то бывало только искание и тревога. Томления было больше, чем верности…
Однако, во всяком случае, предельные вопросы бытия и действия с какой-то неудержимой силой вдвигались тогда в поле сердечного и умного внимания. Это мы узнаем теперь по письмам, дневникам, воспоминаниям людей тех поколений. Это сказывалось и в литературе, в лирике. Достаточно назвать имя Льва Толстого (срв. его «Исповедь»)…
Влад. Соловьев не был одинок в своей борьбе за философию. В ряд с ним нужно поставить немало других и значительных имен… Чичерин, Кавелин, П. Бакунин, Страхов, Дебольский, Козлов, Лопатин, братья Трубецкие… По-разному, и часто в споре, они все делали одно и то же нераздельное философское дело…
То были опыты творческого усвоения, претворения и преодоления великих исторических систем филофии, немецкого идеализма, прежде всего, отчасти, и философского спиритуализма, в типе Лейбница, и даже утопического позитивизма (срв. влияние Фурье у Козлова). Это была отличная школа мысли, и в ней закалилась не только сила, но и смелость русского умозрения…
И настойчивая философская проповедь преодолела, наконец, и общественное равнодушие, противление и упрямство. В 80-х годах эта проповедь становится совсем открытой и получает размах почти что общественнного движения. В этом отношении особенно показательна история Московского Психологического общества и образ его долголетнего председателя, Н. Я. Грота. Его удачно называли в некрологах «философским скитальцем». Он так и прожил всю жизнь в смене мировоззрений, в тревоге и почти суете около этих предельных вопросов. Но у него была несравненная искренность бескорыстного искателя…
Очень интересно пересматривать, год за годом, эти желтоватые книжки «Вопросов философии и психологии», журнала, издаваемого Психологическим обществом (с 1891 г.), и в них перечитывать также и протоколы собраний Общества. Внимательный читатель и по этим сухим, часто намеренно высушенным, отчетам сумеет проследить историю нарастающей мысли или философского пробуждения, историю этого сдвига или возврата к идеализму…
Здесь Соловьев читал «Об упадке средневекового мировоззрения», и Лев Толстой — «Что такое искусство…»
Умозрительный прилив в конце прошлого века не был внезапным, он задолго подготовлялся в тиши…