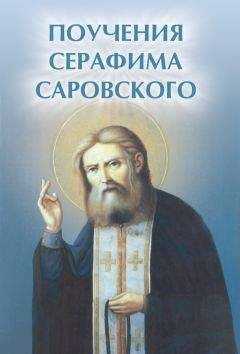С. А. Левицкий - Трагедия свободы
Иначе говоря, такая первичная правозможность будет «субъектом», который, в строгом смысле этого понятия должен мыслиться необъек–тивируемым (см. главу «Гносеология самопознания»). Только необъек–тивируемый, т. е. подлинный, субъект–возможность может мыслиться свободным. Говоря словами Дриша, только «бессущностные сущности» могут быть свободными. Понятие «субстанциального деятеля» Н. Лосского является, на мой взгляд, единственным философским понятием «субъекта», которое удовлетворило бы такому требованию. Ибо субъект и есть индивидуализированная сфера бесконечных возможностей, он есть «сущая мочь бытия» (выражение С. Франка)[143].
В этом своем качестве субъект подпадает под категорию «сущего», а не под категорию «бытия» (мы имеем в виду это замечательное противопоставление «сущего» — «бытию», намеченное Вл. Соловьевым в его «Теоретических основах цельного знания»). «Предметом истинной философии является весь мир в своей общности. Философия изучает само бытие. Но абсолютное первоначало не может быть названо бытием: оно есть начало всякого бытия, всякое бытие есть его предмет. Сущее не есть бытие, оно не есть также небытие, ибо небытие есть лишение бытия, а абсолютному первоначалу принадлежит всякое бытие. Его следует определить как мощь и силу всякого бытия. Бытие предполагает отношение к другому, оно всегда относительно. Сущее есть субстанция всего, в том числе и нас самих; все, что есть, едино, оно глубже и выше всякого бытия. Бытие есть только поверхность, под которой скрывается истинно–сущее»[144].
Повторяем старый гегелевский аргумент: если понимать под бытием абстракцию от всего, что «есть», то понятие это — по своей предельной широте и бессодержательности — хотя и необходимо для логики, но дает философии возможности найти точку опоры для «выведения» из него действительного, конкретного бытия. Такое пустое, мнимо всеобъемлющее бытие есть, по выражению Гегеля, «ночь Абсолютного, в котором все кошки–явления серы». Достаточно, например, поставить вопрос о том, «есть ли прошлое» и «есть ли будущее», чтобы убедиться, что тут мы сопредполагаем нечто, в чем существует прошлое (например, память мирового Духа или самопамятующее бытие), или, в случае будущего, сопредполагаем всеведение Божье, предопределенность всего имеющего совершиться и саму идею, что будущее имеет совершиться. Но тогда понятие бытия почти совпадает с понятием Абсолютного. И в таком случае нам опять–таки придется ввести критерии для отличения этого абсолютного бытия от бытия в непосредственном значении этого понятия.
Все, что «есть», по смыслу своего определения уже не может быть иным (хотя бы оно могло «когда–то» или будет мочь в будущем). Между тем в понятии свободы с необходимостью содержится «возможность быть иным — возможность инобытия». Ибо то, что непререкаемо есть, ограничивает и в пределе сводит на нет свободу.
Свобода по смыслу своей сущности онтологически предшествует совершаемым свободно актам, ибо свобода первичнее своих проявлений. Выражаясь афористически, свобода предшествует бытию. В этом смысле свобода есть не бытие, а «безосновная основа бытия». Свобода — в сущем, а не в бытии. Бытие свободно, лишь поскольку оно «может быть иным», то есть поскольку оно не всецело «есть». Выражаясь в духе Гегеля, можно было бы сказать, что в бытии постольку есть свобода, поскольку в нем есть небытие. Поэтому всякий онтологический монизм неизбежно тяготеет к детерминизму, классическим примером чего может служить Спиноза.
То, что Вл. Соловьев называл «сущим», совпадает со сферой того, что Н. Лосский называет «субстанциальными деятелями». Сущее, не будучи бытием, «обладает» бытием, но может бытие «потерять», развоплотиться.
Сущее всегда субъективно, оно необъективируемо. Всякая объективация сущего есть тем самым уже превращение сущего в бытие, которое всегда объективно. Бытие может быть мыслимо только как объект, сущее — только как субъект. Мы имеем здесь в виду не только гносеологический субъект и объект, но прежде всего субъект и объект в их метафизическом смысле. Но, понятые в метафизическом смысле, субъект и объект перерастают первичное, гносеологическое значение этих понятий. Поэтому мы применяем здесь соловьевские термины «сущего» (и «бытия»).
Стихия сущего и есть свобода — творческая мощь потенций, субстанциальная мочь бытия. Стихия бытия всегда опредмечена, объективирована, детерминирована. В свою очередь, сущее без бытия развоплощено, оно страдает в своей субъектной замкнутости, хотя эта «замкнутость» с точки зрения «бытия» и представлялась бесконечностью. Бытие, разлученное с сущим, есть слепая инерция, «материя». Афоризм Плотина: Трагедия свободы «Чем более бытие (читай — сущее) покидает предмет, тем более становится он вещью» — приобретает в этом свете полноценный смысл. Все сущее стремится воплотиться, стать бытием. Эта «жажда бытия» (по Шопенгауэру — «воля к жизни») есть первичное стремление, заложенное в природе сущего. В биологических терминах оно совпадает с «инстинктом самосохранения», в физическом — с законом сохранения энергии (еще Спиноза учил: omnia entia in sua esse perservare — «каждая сущность стремится пребыть в своем бытии»)[145].
Если искать свободу в бытии, то там мы ее найти не сможем. Бытие исключает свободу. Если искать свободу в чистом небытии (на манер Сартра), то и это — безнадежное предприятие, ибо в Ничто не может быть что–то. И когда Фауст говорил: «В твоем Ничто я все найти надеюсь», то он имел в виду мэон (т. е. первоначальный, первозданный хаос, из которого можно получить все), а не «чистое» небытие, которое есть абсолютная пустота, несущее. Экзистенциальный тезис: «свобода — в небытии» — звучит парадоксально заманчиво, ибо в нем есть частица истины (свободы нет в бытии). Но если не заниматься софистической эквилибристикой понятий, то этот тезис лишен положительного смысла.
Свобода есть возможный и должный предикат субъекта, она не может не относиться к чему–либо. Небытие же никак не может быть субъектом (хотя оно может быть теоретически мыслимым объектом). После того как Платон в своем «Горгии» дал доказательство абсурдности гипоста–зирования Ничто, было бы абсурдным ретроградством возвращаться к этому классическому заблуждению мысли, почуявшей реальность трансцендентного, но наивно отождествляющей его с небытием. Само понятие небытия играет у того же Платона важнейшую роль, и вообще для философии понятие это столь же необходимо, как ноль в математике, но гипостазирование небытия должно быть раз и навсегда отброшено.
Иллюзия «бытия небытия» возникает, когда мы пытаемся мыслить «сущее» в категории «бытия» и, естественно, не находя «сущего» в «бытии», свое ненахождение фиксируем в «Ничто».
Мы видели, однако, что сущее, не будучи само по себе бытием, стремится воплотиться в бытии, стать бытием. Понятие «воплощения», следовательно, должно играть первичную роль во всякой метафизике сущего.
Всякое воплощение содержит в себе два элемента: оно есть одновременно стяжание и умаление. Стяжание — ибо реализация потенции дает этой потенции конкретное содержание, как бы переводит ее из небытия в бытие. Умаление — ибо всякое воплощение с необходимостью ограничивает круг возможностей, заставляет творческую потенцию укладываться в узкие рамки мировых данностей. Эти два аспекта воплощения содержатся во всяком творческом акте: вдохновение поэта, композитора всегда, субъективно говоря, богаче и свободнее продуктов его осуществления. Но, с другой стороны, творец не может на этом основании пред–почесть это субъективное богатство реализации своего вдохновения в конкретных формах. Наоборот, сама мысль о таком нарочитом «задержании» творчества представляется ему противоестественной, ибо все сущее стремится воплотиться. Всякое творчество всегда есть воплощение и предполагает, с одной стороны, «материю» (через бытие), в которой воплощается замысел, с другой стороны, оно, конечно, предполагает сам замысел, «родившийся» в авторе, открытый автором.
Поэтому–то всякое осуществление свободы может казаться в то же время ее обеднением и в пределе — ее самоотменой. Всякий акт выбора уже как бы отменяет свободу, ибо акт выбора уже ограничивает и обязывает выбравшего. Выбирающий волен в своем выборе до конца, выбрав же, он уже невольно становится рабом объекта выбора. Свобода тут материализуется, отяжелевает и тем самым становится необходимостью. Необходимость и есть «ставшая» свобода — свобода, ставшая бытием. Всякая свобода как бы стремится к этой материализации и тем самым к необходимости.
Так примерно понимал проблему свободы Фихте, который утверждал первичность свободы и в то же время считал, что «долг свободы» — ограничить, отменить себя. Только несовершенный свободен, говорит Фихте, совершенный же сознательно пользуется своей свободой ради ее упразднения в высшей необходимости.