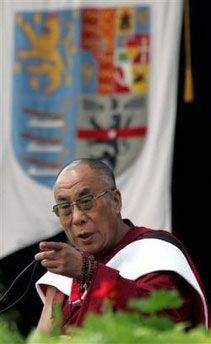Ольга Гусакова - Хранители веры. О жизни Церкви в советское время
Я не вижу проблемы. Мечта о государственном Православии мне кажется совершенно несостоятельной. Нам бы о Царствии Небесном подумать. Зачем думать о царстве земном? Как написано в Священном Писании, а для нас это важнейший авторитет: придя, Господь найдет ли веру на земле [103] . Больше того, и мне очень это нравится: когда придет Сын Человеческий, тогда распрямитесь, поднимите головы ваши, потому что пришло освобождение ваше [104] . Получается, сколько мы ни будем трудиться, возделывать эту земную жизнь, мы постоянно будем что-то терпеть… А Господь пришел – распрямитесь! «А-а-а! Ну, наконец-то, Господи, слава Тебе! Пришло освобождение наше, обещанное Богом». Чего вы хотите? Комфорта? Хотите, чтобы по всей России и по всему миру стояли храмы и без конца звонили колокола? Простите, но это нежизненно. Никто нам этого не обещал.
Как в Соловецком лагере говорили воры моему отцу: «Ох уж эти фраера. Всё им не так. И власть им плохая, и хлеба дают мало. И это им плохо, и то. Чем недовольны-то?» Именно мы и похожи на фраеров. Все нам не так, это плохо, и это плохо. Ребята, я говорю, спасайтесь! Спасайтесь, вас никто не тормозит! Время сейчас далеко не самое плохое. Можно молиться, можно и храмы строить. Только делайте это спокойно и доброжелательно.
Мы все эти двадцать два года здесь служим тихо, просто, спокойно, никого не задираем, не говорим, что мы лучше всех, не ездим на красивых громадных машинах. И живем так же, как жили студентами, – от получки до получки. И ничего. Храм стоит, мы молимся. И люди видят, что мы не враги, и что мы не хотим их всех заставить молиться, и не ждем, чтобы они все деньги нам отдавали. И они не протестуют. А в других местах начинают протестовать. Я понимаю, что против хороших батюшек тоже протестуют. Против любых протестуют. И многие поддаются враждебной агитации и пропаганде.
Шел я как-то по Сергиеву Посаду, а позади меня школьник бежал и плевал в меня, крича: «Поп, поп, поп!» Это был как раз какой-то виток критики уже после 1991 года – момент такой – опять против Церкви. Я сразу вспомнил хрущевские годы. То есть, если наверху идет кампания, так и в народе начинается. Наверху если благоприятно, то и внизу спокойно.Не надо прельщаться. Мы мир не изменим. Мы и не должны его изменять. Это забота высокостоящих людей. А мы, самые простые батюшки, хотим, чтобы больше людей спаслось, больше стало верующих православных людей, которые сегодня пришли к вере, а завтра могут умереть. И нам не до политики, не до важных проблем государства. Любимые слова моего деда, священноисповедника Сергия: Не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем (Евр. 13: 14). Город – это очень емкое слово (по-гречески «полис», отсюда и политика). И позиция наша должна быть такая: нет у нас здесь ни города земного, ни политики, мы, говорит апостол, – грядущего, то есть будущего, взыскуем – ищем Царства Небесного, а не земного. А это и есть самое важное для человека.
Феодора Никитична Кузовкова
Каждый день и каждый час была какая-то истинная борьба. И мы выживали. Везде. Где бы ни были. И такое было помышление на будущее, что должны мы вернуться, должны все строить после войны. И тогда никто у нас не ссорился. Какие-то люди были, как кропленные Святым Духом.
Феодора НикитичнаКузовкова (род. 1929). Во время Великой Отечественной войны оказалась в немецкой оккупации, была угнана на принудительные работы. Вернувшись на родину, более тридцати лет проработала в колхозе, воспитала восьмерых детей. В последние тридцать лет – староста храма Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса в селе Вороново Московской области.
– Феодора Никитична, расскажите, пожалуйста, про вашу семью, детство.
– Мама моя, Ольга Михайловна, была православной христианкой. Три года пела на клиросе, труженица всех мер. Папа, Никита Степанович, тоже был труженик. Было у них нас семеро. Я четвертая. Помню, как с мамой ходила на поле. Отец косил рожь, пшеницу, мама вязала снопы, а мы, дети, их собирали, клали копны. Очень было весело, хотя и тяжело.
Когда пошла в школу, мама на меня надела крестик и сказала: «Не снимай ни в коем случае». Пришли мы в класс, учительница нас рассадила и говорит: «Поднимите руки, у кого крестик есть». Я смотрю по сторонам – никто не поднял руки. Думаю: неужели все без крестов? А на мне-то крест – как же я не подниму?
Учительница меня вызывает к столу и начинает снимать крестик. А я зажала его в руке и говорю:
«Нет, я никому не дам крестик снять, потому что это мне мама надела, благословила в школу, чтоб я училась хорошо». И она отступила…
Училась я средне. А потом война застала.
– Вы попали в зону оккупации?
– Да. В сорок первом мне было двенадцать лет. Пришел немец к нам быстро, к осени. Наши власти не успели все прибрать как следует, амбары были полны хлебом. Немцы собрали людей и начали хлеб раздавать: на каждую душу – меру. Весь хлеб разделили и двинулись дальше. Дошли до Волгограда. А потом наши их повернули и погнали обратно.
Немцы нас из дома выгнали, наш дом заняли, а мы в амбаре поселились. Амбар был у нас каменный, мы прорубили окошко в стене.
Я ходила и говорила на них: «Суслики вы сопатые (они носами все время шмыгали), выгнали нас, а сами пануете». А один, видимо, понял что-то, приходит к маме: «Матка, что такое суслик?» Мама догадалась, говорит: «Это птичка такая, красивая». Он: «А сопатые? Маленькая на нас так говорила». Мама испугалась, говорит: «Да простите ее, она непонятная у нас». Хотели застрелить меня, но оставили.
Когда немцы стали отступать, они уничтожали все за собой. Старых пристреливали, малых гнали с семьями в плен. А у нас брат родился перед самой войной. И вот мы и его в ванночке с собой везли.
Немцы нас гнали, а за нами все сжигали. Наши самолеты пролетали низко над землей.
Мы видели, что на них красные звезды, они видят, что нас гонят, – и не обстреливали, вроде как охраняли.
Потом нас пригнали в Литву, город Алитус [105] . Там был лагерь. Расселили в пятиэтажных домах. В комнате по сорок-пятьдесят человек, а всего пленных семь тысяч. Кухня была общая. Нам давали пол-литра супа жидкого, сто граммов хлеба с опилками. Одного повара немцы расстреляли у нас на глазах. Что-то он там нарушил, так они собрали всех – и малых, и старых – и при нас расстреляли.
– Как вы выживали в этих условиях? Тем более что вы ведь совсем ребенком были…
– Лагерь был огражден колючей проволокой. А люди были голодные – прокопали яму под изгородью и пролезали, ходили побираться, просили хлебушка. Мои братья-сестры все отказались – мы, говорят, лучше умрем. А я думаю: нет, я умирать не буду, я полезу в эту дыру и пойду по домам. И мы ходили с одной девушкой. Каждый день, как по заданию. Покормят нас, дадут с собой хлебушка, кусок мыла. Мы и радовались, не унывали. Какое-то у меня было разуменье, что надо крепиться, быть сильной духом.
Страшно не было. Многих застреливали, были патрули по вышкам. А мы не попадались. Все уцелели: дети, и бабушка, и мама.
В лагере мы с мамой молились. Становились на колен очки – мама, бабушка, еще семья из Могилева – мама и две дочки, и три девки, одиночки, из Минска. Помолимся, как мама скажет, а потом спать ложимся. А утром на скорую руку мама прочитает «Отче наш», мы покрестимся да бежим на работу.
Люди в концлагере были тише воды ниже травы. Некоторых угоняли как бы секретом. Потом слух доходил, что где-то убивают людей и сжигают. Мы все как ошеломленные были. Но мама не отчаивалась, хоть и с малыми детьми в концлагере. Такая верующая была и Божия.
В плену мы не унывали, имели надежду на Вышнего. Господь с нами и пошлет помощь Свою. И у нас такой был дух, что мы будем живы, и вернемся домой, и будем продолжать жизнь православную.
Потом стали кого куда разбирать – в Литву эшелон, в Латвию эшелон, в Восточную Пруссию эшелон. Наш эшелон попал в Восточную Пруссию. Когда ехали, маму чуть не расстреляли. Было у нас красное одеяло. И детки меньшие его обмочили. Мама выставила одеяло в окно, чтоб просушить, и нас остановили эсэсовцы. Все с автоматами. А мы думаем: что такое? Слышим, говорят: «Партизаны, партизаны, матка…» Ругаются. «Партизаны, где партизаны?» А какие у нас партизаны? Подходят к нам: «Это что? Красный флаг выставили?» Мы говорим: «Дети вот одеялко обмочили…» Маму с товарняка кувырком – на расстрел. А мы все за ней тоже кувырком. И смоленские, что с нами были в эшелоне, тоже все кувырком за нами – и тем спасли маму. Обхватили ее, говорим: «Если застрелите маму, то и нас стреляйте всех». Ну, отпустили.
Привезли нас в Восточную Пруссию. Тех, кто были одиночки, разобрали, – рабочая сила. А у нас мама, бабушка и семеро детей, самой старшей пятнадцать. Стоим никому не нужные, никто нас не берет. Какой хозяин возьмет? Работать некому… Ну, потом один пан – видимо, Господь его вразумил – взял и нас, и трех девушек из Минска, и мать с двумя детьми из Могилева. Привез домой, поселил в доме, в двух комнатах, и сказал: маме на работу, старшей сестре и мне. Вот мы работали, а бабушка была с малышами дома.