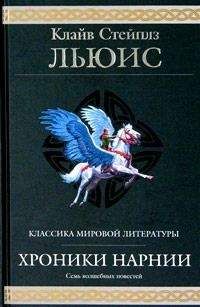Клайв Льюис - Пока мы лиц не обрели
— Значит, ты не сделаешь этого? Ты не хочешь доказать мне, что он бог, и избавить этим от беспокойства, которое иссушает мне сердце? Спасибо, сестра.
— Я бы сделала, но я не могу.
Я огляделась вокруг. Солнце уже скрывалось за седловиной. Еще немного, и она отошлет меня. Я встала.
— Пора положить этому конец, — сказала я. — Ты должна сделать это, Психея. Я приказываю тебе.
— Дорогая Майя, ты не можешь мне более приказывать.
— Тогда мне не стоит больше жить! — воскликнула я и отбросила с этими словами мой плащ. Выставив вперед левую руку, я вонзила в нее кинжал так, что проколола ее насквозь. Больнее всего мне было, когда я попыталась извлечь его обратно, но я вытерпела и это.
— Оруаль! Ты сошла с ума! — вскричала Психея, вскочив на ноги.
— В этой урне лежит лента. Перевяжи мою рану, — сказала я, садясь на мох. Раненую руку я выставила вперед, и кровь стекала с нее на землю.
Я думала, что Психея начнет кричать или упадет в обморок, но я ошиблась. Она побледнела, но не потеряла присутствия духа. Кровь лилась сильно, и ленту пришлось обмотать вокруг руки не один раз. (Мне повезло — я нанесла удар, не задев ни кости, ни сухожилий. Если бы я знала тогда о строении руки столько, сколько знаю сейчас, я бы не решилась на такое.)
На перевязку ушло немало времени, и когда мы закончили, солнце уже стояло низко, и в воздухе похолодало.
— Майя, — заговорила первой Психея. — Зачем ты сделала это?
— Чтобы показать тебе, девочка, что я не расположена шутить. Послушай, ты довела меня до отчаяния. Выбирай сама — поклянись теперь на этом клинке, влажном от моей крови, что ты сделаешь так, как я велела, иначе я убью сперва тебя, а потом себя.
— Оруаль, — сказала Психея с царским достоинством, высоко держа голову, — ты могла бы и не говорить, что убьешь меня. Не в этом твоя власть надо мной.
— Тогда поклянись! Ты знаешь, что мое слово твердо.
Выражение ее лица стало странным. Мне подумалось, что, должно быть, так смотрит мужчина на возлюбленную, которая изменила. Наконец Психея сказала:
— Да, видно, я и вправду не со всякой любовью знакома. По мне, такая, как твоя, ничем не лучше ненависти. Я словно в темную яму заглянула. Ах, Оруаль, ты взяла мою любовь к тебе, глубокую, из самого сердца, не меркнущую от того, что я люблю и другого, — эту любовь ты взяла в заложницы, чтобы обратить ее против меня. Ты превратила ее в орудие пытки — раньше я этого за тобой не знала. В любом случае, между нами произошло что-то непоправимое. Что-то умерло навсегда.
— Довольно болтовни, — сказала я. — Мы обе умрем здесь целиком и без остатка, если ты не поклянешься на этой стали.
— Я сделаю это, — сказала она с жаром. — Сделаю не потому, что я усомнилась в моем супруге и его любви. Я сделаю это только потому, что я думаю о нем лучше, чем о тебе. Он не так жесток, как ты, я знаю. Он поймет, с какой мукой в сердце я вынуждена была ослушаться его. Он простит меня.
— Может, он никогда и не узнает.
Надо было видеть, с каким презрением она посмотрела на меня. Мне было больно, но в то же время я гордилась — не я ли научила ее этому благородству? Ведь она была все же моим творением. А теперь она смотрела на меня так, словно ниже меня не было твари на земле.
— Ты думаешь, я скрою от него? Думаешь, не скажу ему? — воскликнула Психея, всаживая слова, словно гвозди в живую плоть. — С тобой мне больше не о чем говорить. Довольно. С каждым словом я узнаю слишком много нового о тебе. Я любила тебя, почитала, верила тебе, слушалась тебя, пока ты имела на это право. Теперь все кончено — но я не хочу, чтобы мой дом был обагрен твоей кровью. Ты хорошо придумала, чем принудить меня. Где твой кинжал? Я поклянусь.
Я победила, но сердце мое исходило кровью. Мне мучительно хотелось взять свои слова обратно и попросить у нее прощения. Но вместо этого я протянула ей кинжал (такая клятва считалась у нас в Гломе самой крепкой — ее называли «стальная клятва»).
— И даже теперь, — сказала Психея, я делаю это, зная, на что иду. Я собираюсь предать моего возлюбленного, лучшего из всех. Возможно, не успеет и солнце взойти, как счастье мое разлетится вдребезги. Вот она, цена твоей жизни, и я заплачу ее.
Она поклялась, и слезы хлынули у меня из глаз. Я хотела заговорить с ней, но она отвернулась.
— Солнце почти зашло, — сказала она. — Иди на тот берег. Жизнь твоя спасена, уходи.
Я поняла, что боюсь ее. Я вернулась к реке и кое-как перебралась на мой берег. И тут ночная тень легла на всю долину.
Глава пятнадцатая
Очевидно, выйдя на другой берег, я сразу же потеряла сознание; ничем иным я не могу объяснить провал в моей памяти. Очнулась я от холода, жажды и страшной боли в раненой руке. Я с жадностью напилась из ручья и тут же захотела есть, но вспомнила, что вся еда осталась в урне вместе с лампой. Все во мне противилось тому, чтобы позвать на помощь Ирека, такого колючего и неприветливого. Мне казалось (хотя я уже понимала, что это самообман), будь со мной Бардия, все кончилось бы иначе, намного лучше. И я начала представлять, как бы это было, пока не вспомнила, зачем я, собственно говоря, здесь. Мне стало стыдно, что я забыла о главном.
Я собиралась сидеть у брода, пока не увижу свет лампы, зажженной Психеей. Затем Психея прикроет лампу, и свет на время исчезнет. Потом, скорее всего, свет снова появится, когда она поднесет лампу, чтобы рассмотреть лицо своего коварного господина. А потом — по крайней мере я на это надеялась — я услышу шаги Психеи в темноте и ее сдавленный шепот, когда она позовет меня с того берега. В то же мгновение я окажусь рядом и помогу ей переправиться. Она будет плакать, и я утешу ее; она поймет, кто ей друг, а кто враг, и снова полюбит меня. Она будет благодарить меня за то, что я спасла ее от мерзавца, чье лицо она увидела при свете лампы. От таких мыслей мне становилось легко.
Но были и другие мысли. Как я ни пыталась, я не могла избавиться от страха. А вдруг я ошиблась? Вдруг он и вправду бог? Но о нем мне не очень-то хотелось думать. Я думала больше о том, что тогда будет с ней, с моей Психеей. Я представляла, как она будет страдать, если ее счастье кончится из-за меня. Не раз за эту ужасную ночь мне нестерпимо хотелось перейти ледяной поток и закричать, что я освобождаю ее от клятвы, что лампу зажигать не надо, что дала ей дурной совет. Но я боролась с этим желанием как могла.
Все эти мысли скользили по поверхности моего сознания, а в глубине, подобной тем океанским глубинам, о которых рассказывал мне Лис, лежало холодное, безрадостное воспоминание об ее презрении, о том, как она призналась мне в нелюбви — почти что в ненависти.
Как могла она меня ненавидеть, когда рука моя вся ныла и горела от раны, нанесенной любовью? «Жестокая, злая Психея!» — рыдала я, пока с ужасом не заметила, что вновь впадаю в то бредовое состояние, которое не оставляло меня, пока я болела. Я собрала волю в кулак и остановилась. Что бы ни происходило, я должна внимательно смотреть и не сходить с ума.
Вскоре в первый раз вспыхнул свет и сразу же снова погас. Я подумала (хотя я не сомневалась, что Психея сдержит свою клятву): «Так. Пока все идет как задумано». И тут я сама ужаснулась задуманному мной, но быстро отогнала эти мысли.
Ночной холод был нестерпимым. Рука моя пылала огнем, как головешка, остальное тело превратилось в сосульку, которая прикована к этой головешке, но все-таки не тает. Только сейчас я сообразила, что моя затея довольно опасна — ведь я могла умереть от раны и голода или, по меньшей мере, смертельно заболеть. Из этого зерна тотчас в моем сознании расцвел болезненный цветок самых диких фантазий. Мне представилось, что я лежу на большом костре, а Психея бьет себя в грудь и плачет, раскаиваясь в своей жестокости; Лис и Бардия тоже были там и плакали — даже Бардия! — потому что я умерла. Но мне даже стыдно говорить сейчас обо всех этих глупостях.
Очнулась я оттого, что свет появился снова. Моим глазам, обессиленным темнотой, он показался нестерпимо ярким. Костер ровно горел, наполняя пустошь вокруг неожиданным уютом домашнего очага, принося какое-то успокоение во весь мир. Но тут тишина взорвалась.
Откуда-то с той стороны, где я видела свет, прозвучал громкий, величественный голос; мурашки пробежали у меня по спине, а дыхание перехватило. Он не был страшным, этот голос; он был суров и непреклонен, но звучал литым золотом. Я забыла о боли; волна ужаса пронизала все мое существо; того ужаса, который испытывают люди перед лицом бессмертных. И тут же я различила сквозь трубные звуки этого голоса слабые женские рыдания. Сердце мое готово было разорваться. Но и голос, и плач — все это длилось какие-то мгновения, может быть, не дольше двух биений сердца (я говорю — биений сердца, хотя мое сердце не билось тогда — оно остановилось от ужаса).
Яркая вспышка осветила все вокруг. Удар грома, такой сильный, словно треснуло небо, раздался у меня над головой, и сразу же дождь из молний обрушился на долину. При каждой вспышке видны были падающие деревья; казалось, это падают колонны призрачного дворца Психеи. Из-за грома казалось, что стволы деревьев лопаются и падают беззвучно; более того — за раскатами грома я сперва не услышала, что раскололась сама Гора. Огромные скалы пришли в движение и покатились по склонам, сталкиваясь и подпрыгивая, как мячики. Река встала на дыбы и окатила меня с головы до пят ледяной водой, прежде чем я успела отпрянуть; но я все равно бы промокла, потому что вслед за бурей хлынул беспощадный ливень. Вскоре меня уже можно было отжимать, как губку.